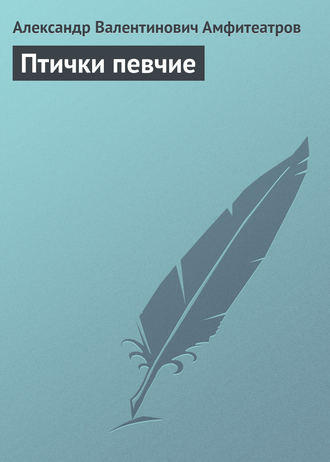
Александр Амфитеатров
Птички певчие
Почти все страстно любят стихи. Из поэтов в этой среде распространены: Апухтин, Суриков, Надсон и Некрасов – нервные лирики. Некоторые женщины, начитавшись поэтов, сами начинают понемножку, исподтишка, грешить стихами. Когда знаменитый «диктатор Москвы», городской голова Н. А. Алексеев, щедро отдавший долг яромании, умер застреленный сумасшедшим Адриановым, яровские певицы облеклись в траур, яровская поэтесса сложила в память убитого элегию, а яровский концертмейстер Пригожий положил эту элегию на музыку. К сожалению, у меня нет под руками образчиков кафешантанной поэзии. Стихи, обыкновенно, довольно нескладны и наивны, но между мусором попадаются блестки недурных мыслей, настроений и чувств. Темы, по большей части, мрачно-амурные: измена… несчастная любовь… самоубийство… покушение на убийство из ревности… Впрочем, эти невинные темы – не единственные. Среди устной и письменной «поэзии» Яра, Стрельны, Мавритании etc. очень популярны творения некой Ю. А.: нечто совершенно неприличное. Даже трудно поверить, чтобы эти стихи были созданы женским воображением, написаны женскою рукою. Такой вакханалии рифмованного безобразия не услышишь ни в каком другом месте. Ни одна певица, разумеется, не позволит себе обмолвиться «Юлькиными рифмами» в трезвом виде и под лицемерными сводами ресторана. Система Яров и К° разгул во всю, но по-благородному; одна казовая, завлекательная сторона вакхических забав, никаких скандалов и отталкивающих сцен. Гость засыпает за столом, – его вежливо выпроваживают вон. Певицу напоили до того, что бедняжка во всеуслышание декламирует «Юлькины рифмы», – ее сажают на пролетку и отправляют с артельщиком домой впредь до вытрезвления, а назавтра – крупный штраф. Частые штрафы – тяжелое бремя небогатого бюджета певиц: штрафы берутся с них по девизу «всякая вина виновата»… Певица приехала в ресторан четвертью часа позже обычного, – штраф, хотя бы ресторан был пуст, как Сахара; уехала, вместо четырех утра в три часа и пятьдесят пять минут – штраф; надела черное платье, тогда как приказано было всем быть в желтых, – штраф; ушла от богатого гостя к другому, менее выгодному, и не послушалась приказа хозяйки или распорядителя возвратиться, – штраф; села в коляску знакомого у подъезда ресторана, – штраф, и т. п. Хозяйки хороших хоров, впрочем, больше пугают свое женское стадо штрафами, редко приводя в исполнение угрозу, или – вычитают штрафы, но к Новому году либо в конце сезона возвращают их вместо наградных денег. Но есть негодяйки, превращающие системою штрафов жизнь певицы в рабскую кабалу. Певица – особенно если она неопытна, что называется «рохля» и не умеет вступиться за себя – у подобной хозяйки живет только что не даром, не получая почти ни гроша. В таких хорах, – обыкновенно, мелких, третьеразборных, – естественно, – быстро и сильно развивается тайная проституция.
Между собою певицы уживаются довольно ладно. Как во всякой полуобразованной среде, у них – правда – то и дело вспыхивают бешеные ссоры из-за пустяков, но ссоры эти улегаются так же быстро, как начались, – и, не успели подруги всласть переругаться, как, глядь, уже помирились и ходят по залу под руку, разговаривая самым дружелюбным манером, пересмеиваясь, секретничая. Правду сказать, бедным созданиям нечего делить между собою, – следовательно, не из-за чего и крепко ссориться. К тому же за слишком бурную – до заметности ее гостям – ссору тоже штрафуют. Тихие, но упорные ссоры – когда две женщины дуются одна на другую, не разговаривая друг с другом по целым неделям и даже месяцам – вызываются лишь какими-либо из ряда вон выходящими неприятностями: если певица наябедничает на подругу хозяйке, подведет ее под штраф, пустит про нее скверную сплетню, поссорит ее с другою подругою. Большим оскорблением товарищеских отношений считается отбить у подруги даже невольно, а тем более умышленно ее любовника, не только денежного, но и по сердцу… последнее, пожалуй, еще позорнее. Охотницы до такого спорта à la Carmen попадают в немилость не только у обиженных товарок, но и всего хора. Обиженные же в ревности доходят до безумных поступков. Тут-то и является на сцену излюбленный российским полусветом нашатырь, а бывали случаи, что прежде чем отравиться, влюбленная мстительница прыснет в лицо изменнику или разлучнице карболовою кислотою. Еще стыднее, чем отбить любовника, наушничать ему на его возлюбленную, рассказывать о ее кокетливом флирте с кем-либо из гостей, с распорядителем, солистом своего или чужого хора. Такие наушницы во всеобщем презрении и часто, объявленные в некотором роде вне закона, бывают принуждены выйти из хора: столько им делают маленьких, булавочных неприятностей.
В хорах чрезвычайно развиты «дружбы» – вроде институтского обожания. Знакомый привозит коробку конфет певице и не застает ее в ресторане.
– Не передадите ли Анюте этот сверток? – просит он другую.
Та отказывается.
– Отдайте Мане. Она с Анютою друг и передаст ей ваш подарок.
– А вы разве враги?
– Нет, конечно, – как служим в одном хоре, то подруги. Но Маня и Анюта – друзья. И если я возьмусь передавать Анюте подарки. Маня может на меня обидеться.
За исключением коллективных поездок в другие города, когда хор всею стаею поселяется в одной гостинице, певицы предпочитают квартировать одиночками, не сходясь в группы по три, по четыре, хотя при таких условиях можно бы жить и дешевле. Причина разобщенности – все та же боязнь быть принятыми за потайных проституток, и по такому подозрению при первом же неосторожном мужском визите попасть под полицейский надзор. Этого боятся как огня не столько сами певицы, но и их хозяйки: нижегородский губернатор Баранов закрывал рестораны и высылал с ярмарки хозяек хоров, где появлялись уличенные проститутки. Последние в своей среде – парии: они марают и без того невысоко стоящую в общественном мнении хоровую корпорацию, и подруги не прощают обидной молвы – из-за одной виновной, падающей и на них, невиноватых. Торгующая собою певица терпится хором, если у нее хороши голос, или широкий круг знакомства, или она редкая красавица, – как необходимость, но у нее нет ни приятельниц, ни защитниц: ее презирают. При первой возможности заменить ее другою хозяйка спешит сплавить сомнительную женщину с рук. Разумеется, говоря это, я имею в виду порядочные, крупные хоры, а не сброд, развозимый по ярмаркам средней руки и темным ресторанчикам: такие «капеллы» почти всегда – прикрытые благовидною маскою, кочующие лупанары… Парами певицы поселяются часто – особенно «друзья». Сожительства эти, впрочем, бывают довольно кратковременны: два медведя плохо уживаются в одной берлоге. «Если хочешь поссориться с другом, поселись с ним в одной комнате», – старая аксиома. Кроме того, «друзья» никогда не селятся вместе, особенно если одна – молодая, а другая в летах, стыдясь со стороны подруг насмешливых подозрений в симпатиях к пресловутому пороку поэтессы Сафо. Симпатии эти, подаренные плевелам российской цивилизации французскими просветительницами, каскадными певицами и т. д., живут во многих хорах, а в некоторых представляют собою поголовное зло. Это – одна из причин, почему строгие блюстители нравственности своих женщин, цыгане, не любят, когда дочери их таборов дружат с русскими хористками.
«Фараоново племя» – цыганские хоры – обеспечены гораздо лучше и отличаются большею дружностью, сплоченностью, чем русские. В них живет еще крепкая корпоративная стройность – остаток таборных преданий.
Современная цыганщина по характеру и репертуару своему имеет очень мало общего с тою, которою восхищался когда-то сам Пушкин, которую воспевал Полежаев, в которой Алексей Толстой видел и слышал:
Бенгальские розы,
Свет южных лучей,
Степные обозы,
Полет журавлей,
И грозный звук сечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!
Прежняя цыганка увлекала своих поклонников стихийною силою своих дико-откровенных страстей: грусть, – так уж слезы рекою! разгул, – так уж на целый город! Кто слыхал в хорошем хоре пресловутое «Крамбамбули» – один из последних остатков цыганской старины – может вообразить себе беспутную, но захватывающую поэзию этих далеко оставшихся позади пиров. Лесков в эпопее об «Очарованном страннике», Лев Толстой в «Двух гусарах» оставили нам блестящие описания былых в крепостное время цыганских вечеров. Какая-то вакхическая чертовщина! Цыганка пляшет, – и под ноги ее летят тысячи: «Вот тебе сотенная, другая, третья… двадцать сотенных, – только наступи башмачком!» – «Сам о ней думаю: не ты ли, ненаглядная, небо и землю создала? А с дерзостью кричу ей: ходи веселее!» Цыгане измельчали, как измельчали их слушатели: и капиталами, и самодурством, и чувствами. Они относятся к прежним Любашам и Ильюшкам приблизительно в той же пропорции, как, например, Апухтин, слушая воспетый им «ньюф-ньюф-ньюф, припев безобразный», относился к Пушкину, который плакал, слушая «Татьяну-пьяну», и уважал ее настолько, что даже повез знакомить с цыганкою-артисткою свою молодую жену. Я помянул Апухтина, потому что этот поэт, шибко поживший на своем веку, – наиболее популярный вдохновитель современной цыганской песни. Его вакхическая мелодия:
Сердце ли рвется,
Ноет ли грудь,
Пей, пока пьется!
Все позабудь! –
почти что национальный гимн «фараонова племени». Апухтинская поэзия застряла посередине между лирикою старинного романтизма и утонченными, избалованными настроениями школы Бодлера и К°.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья, –
Бессмертья, может быть, залог:
И счастлив тот, кто, средь волненья,
Их обретать и ведать мог
…………..
…………..
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье –
Быть может – полное чумы!
Старинный байроновский кодекс «Пира во время чумы» (особенно последние три стиха его) – в красивом, но, надо сознаться, довольно жидковатом отголоске – стал кодексом и «апухтинщины», придясь как нельзя более по плечу вылинявшим к концу века до полной бесцветности «героям нашего времени»: интересным подсудимым, яровским Гамлетикам и Офелиям, Маргаритам Готье и Арманам Дювалям. Апухтинские «Сердце ли рвется», «Горько ты страдаешь», «Пара гнедых», «Ночи безумные» – стали цыганскими коньками, популярными до того, что за общеизвестностью мелодии и текста, как это всегда бывает, забылось имя их автора: они как бы делались народным порождением и достоянием. Многие ли из распевающих «Черную шаль» и «Под вечер осени ненастной в пустынных дева шла местах» знают, что они поют стихи юноши-Пушкина? Каждый мужик тянет:
Отцовский дом спокинул я, –
Травою зарастет!
Собачка верная моя
Залает у ворот…
и не подозревает в простодушии своем, что поет перевод «Farewell»[17] из «Чайльд-Гарольда» лорда Байрона, о каковом лорде, равно как и что это за штука «лорд», – он, мужик, никогда не слыхал ни одного слова, да вряд ли скоро и услышит. Не слыхал народ и о Шекспире, и о безумной Офелии, а между тем усвоил и приспособил к своим понятиям ее песню, и я сам слышал, как на подмосковных малинниках захожие поденщицы-волоколамки голосили:
Моего ль вы знали друга?
Он был бравый молодец:
За Бутырскою заставой
Разудалый был боец…
Когда афиняне аплодировали Фокиону, он спрашивал: «Что это значит, граждане? Разве я сказал какую-нибудь пошлость?» Относительно стихов и песен судить по Фокиону было бы чересчур строго – до несправедливости. Опошливались повсеместным повторением и пушкинские, и лермонтовские, и некрасовские стихи. Но общее Фокионово правило все-таки не теряет своей силы: когда песня входит во всеобщее употребление и начинает назойливо жужжать на всех перекрестках, автор текста и композитор музыки могут быть уверенными, что они своим двойным вдохновением создали немалую пошлость. Если бы учредить конкурс: кто ухитрится сочинить наивящую бессмыслицу, – вряд ли кто сумеет перещеголять глупостью текст «Тигренка», «Конфетки», «Стрелки» или прелести – вроде:
Дайте ножик, дайте вилку,
Я зарежу свою милку!
Ах, тошно – невозможно,
Без милого жить не можно!
Умер, умер мой Антошка,
Я поставлю гроб на ножках,
Ах, тошно… и т. д
Обобью я гроб батистом,
А сама уйду к артистам!
Ах, тошно… и пр.
Перед этою чушью пасует даже старинное «в огороде бузина, а в Киеве дядько; я за то его люблю, что в середу праздник»; тем не менее еще недавно про Антошку и гроб на ножках с увлечением пели обе столицы, а теперь поет провинция. Поэтому, делаясь достоянием песенников, авторы скорее конфузятся, чем гордятся чрезмерною популярностью своего творчества. Некий молодой поэт, страстный поклонник Я. П. Полонского, рассказывал мне о последнем анекдоте. Вышли они будто бы вдвоем с какого-то журфикса. Стоят на подъезде – прощаются. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький мастеровой: глаза как у мороженого судака, в руках гармоника. Воззрился на господ и залился:







