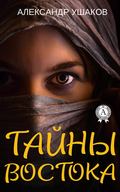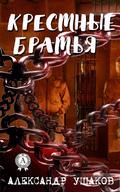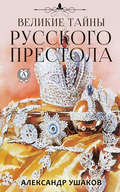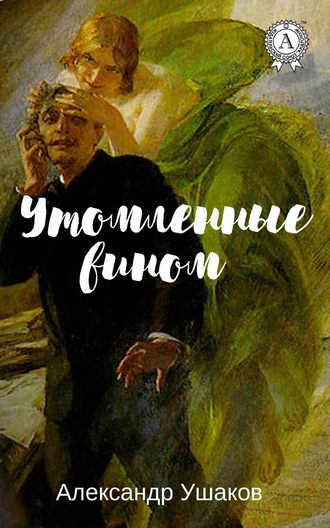
Александр Ушаков
Утомленные вином
Понятно, что не могли историки пройти и мимо версии об убийстве Александра ядом, поскольку у царей всегда много врагов.
Были враги и у Александра.
Как мы уже говорили, смерть Гефестиона стала настоящей катастрофой для царя.
Дабы почтить любимого друга, он, по словам Плутарха, он издал несколько совершенно безумных указов.
Он приказал распять лекаря, лечившего Гефестиона, и запретил игру на флейтах и любых других музыкальных инструментах во всей округе.
Затем, надеясь развеять свою скорбь, он решил, что для этой цели лучше всего подойдут воинские упражнения, и начал настоящую охоту за людьми.
Он предал мечу целое племя кочевников коссаенов и назвал это жертвой духу Гефестиона.
Коссаены были народом, жившим в горах Мидии.
Они никогда не восставали против македонян и не давали убежища мятежникам.
Тем не менее, Александр приказал истребить этот народ, заявив, что приносит их в жертву Гефестиону.
Однако даже убийство мирных женщин, стариков и детей, которые никогда не выступали против македонян, показалось Александру недостаточным, и он начал гонения на последователей зороастризма, точно так же ни в чем не виноватых.
Это произошло после того, как жрецы отказались погасить священные огни, которые постоянно горели в их святилищах.
«Он объявил, – пишет Диодор, – что персы должны немедленно погасить священный огонь в их храмах до тех пор, пока Гефестион не будет погребен».
В данном случае под персами понимались как раз приверженцы зороастризма, священный огонь у которых символизировал присутствие божества.
Для жрецов Зороастра погасить огонь считалось совершенно немыслимым делом, и они, конечно же, не подчинились.
В ответ разъяренный Александр приказал закрыть все храмы.
В зороастрийском тексте, известном под названием «Книга Арды Вираф», говорится, что царь приказал осквернить храмы, казнил жрецов и приказал сжечь «Авесту», священную книгу.
Последней каплей для всех последователей этого религиозного течения стал приказ Александра разрушить монумент основателю религии пророку Заратустре и вместо него водрузить статую льва.
Вообще-то, лев был гербом македонских царей, однако для зороастрийцев это животное символизировало дьявола по имени Гузастаг – воплощение Зла, – который должен был явиться в образе человека накануне конца света.
Некоторые жрецы посчитали желание македонского царя установить подобную статую неопровержимым доказательством того, что Александр и есть тот самый дьявол, и объявили о том, что он должен умереть.
Похоже, сам Александр на эту угрозу не обратил ни малейшего внимания, однако приказал схватить и казнить членов особой зороастрийской секты мудрецов, известных под именем маги. Маги были приверженцами ненасилия и не имели никакого отношения к угрозам в адрес царя.
Впрочем, как и другая невинная жертва царского гнева – правитель Мидии по имени Атарепата.
Атарепата был зороастрийцем, и Александр приказал его казнить, однако тот, узнав, что ему грозит, вместе со всей семьей бежал в горы.
И вот тогда-то Александр и решил, что Гефестиона заменит Пердикка не только на посту начальника кавалерии, но и на посту первого заместителя самого царя.
Надо заметить, что решение возвысить Пердикку выглядит странным.
Пердикка был не только другом Атарепаты, но и его зятем. Более того, всем были известны его симпатии к магам и зороастризму.
Так что яд в вино мог положить именно он.
Через шесть лет после смерти Александра явилась злобная клевета; стали говорить, что царь отравлен по наущению Антипатра, что старший его сын Иолай, бывший у царя виночерпием, дал ему яд.
Говорили, что и Аристотель принял участие в этом преступлении, боясь Александра и желая отомстить за смерть своего племянника.
Средством для отравления послужила, будто бы, ядовитая вода из источника Стикса в Аркадии, и Аристотель, будто бы, приказал сохранять эту ядовитую жидкость в ослином копыте, так как всякий сосуд из другого материала был бы ею разрушен.
Уже из баснословного содержания этого рассказа видно, что это не более, как глупое измышление.
Однако мать Александра, Олимпиада, которая смертельно ненавидела Антипатра и его семейство и для которой, может быть, и сочинена эта басня, жадно схватилась за этот слух, чтобы излить свой гнев на семейство Антипатра и на его приверженцев.
Антипатр и Аристотель в это время уже умерли и таким образом избегли её мщения.
Однако и здесь имеется несколько существенных «но».
Прежде всего, совершенно непонятно, каким чудесным образом отравленный на пиру Александр смог прожить еще почти две недели.
Более того, несколько раз ему становилось настолько лучше, он играл в кости и строил планы по захвату Аравийского полуострова.
Смертельная доза ядов того времени убивала жертву в течение 24 часов.
В противном случае токсины начинали выводиться из организма.
Если человек не умирал в течение суток, то на протяжении нескольких дней он испытывал слабость и болезненные ощущения, но чаще всего в конечном итоге поправлялся.
Но если Александр все-таки был отравлен, то, скорее всего, яд ему в вино подмешивали дважды.
Все источники, кроме одного, рассказывая об обстоятельствах смерти Александра Македонского, упоминают, что он находился в сознании, но не мог говорить.
«Когда его полководцы пришли к нему в опочивальню, – писал Плутарх, он не мог разговаривать, и так продолжалось весь следующий день».
«Когда кто-либо заходил к нему, – вторил ему Арриан, – он лежал, не говоря ни слова, однако пытался поднять голову, чтобы приветствовать вошедшего».
«Он узнавал своих соратников, – повествует «История Александра», – и поднимал голову, чтобы поприветствовать их, однако не мог вымолвить ни слова.
С того момента и до самого конца он больше не разговаривал».
«Будучи не в силах говорить, – сообщал Юстин, – он снял с пальца свой перстень и передал его Пердикке».
Вполне возможно, что мать Александра знала об этом и сошла в могилу в твердой уверенности, что ее сына отравили на пиру той роковой ночью.
Зная любовь Александра к вину, многие авторы считают наиболее вероятной причиной смерти Александра Македонского алкогольное отравление.
Мы уже говорили о том, что Александр вел весьма разгульную жизнь и, несмотря на запрет врачей, продолжал злоупотреблять вином.
Так, всего за день до своей смерти Александр выпил около 8 литров вина.
На следующий день в разгар пира осушил кубок Геракла и выпил много неразбавленного вина.
Возможно, что именно эта причина и спровоцировала сильную боль в области желудка, являясь одним из симптомов алкогольного отравления, за которым неизбежно следует потеря сознания.
Но если даже Александр умер и не от самого вина, то оно, конечно же, сыграло свою роль в его гибели.
Все дело было в том, что Александр, с тех пор как ему велели следить за желудком, регулярно принимал лекарство на основе чемерицы белой, которое готовил сам.
В свое время Александр учился медицине и хорошо разбирался в ней.
В микродозах эта настойка до сих пор используется как слабительное. Но малейшая передозировка может повлечь за собой смерть.
Но главным было все же то, что чемерица плохо сочетается с алкоголем, особенно в постинсультный период.
Не удивительно, что Александра от такого сочетания вполне мог хватить еще один удар, после которого он не мог говорить, едва двигался, а потом впал в кому, из которой уже не вышел.
В источниках говорится о том, что царь почувствовал резкую боль, а несколько позже потерял сознание.
Если Александр довел себя беспрерывными пьянками до того состояния, когда начал испытывать мучительные страдания, то его пищевод был настолько обожжен, что он на протяжении дней не смог бы ни есть, ни пить.
Добавим, что будь Александр хроническим алкоголиком, как предполагают некоторые, то его состояние оказалось бы очень тяжелым.
Не имея возможности выпить ни грамма алкоголя, он очень скоро начал бы испытывать жутчайший похмельный синдром.
У таких больных часто наблюдаются бред, галлюцинации и дрожание конечностей.
Более того, иногда они могут испытывать эпилептические припадки, которые порой даже приводят к летальному исходу.
И у Александра можно найти все эти, или подобные им, симптомы заболевания.
При алкогольном отравлении больной либо полностью теряет сознание, либо впадает в состояние ступора, в котором его нервная система на протяжении нескольких часов находится в ужасном состоянии, словом, в этом случае наблюдается совершенно иная картина, нежели та, которую нам описывают источники, рассказывающие о самочувствии Александра, о его судорогах и бессознательном бреде.
На самом деле, главное следствие алкогольного отравления – непрекращающаяся рвота.
В этом случае смерть зачастую наступает оттого, что больной захлебывается рвотными массами или умирает от обезвоживания организма.
Да, Плутарх сообщает о том, что Александра мучила сильная жажда в ту ночь, когда он почувствовал себя плохо, но ни этот автор, ни другие не упоминают о рвоте или хотя бы тошноте как одном из симптомов заболевания великого царя.
Так, Юстин записал, что некоторые из друзей Александра предположили, что причиной смерти царя стало пьянство, но сам он подобную возможность отвергал и обвинял в смерти Александра тех, кто унаследовал его власть.
Как можно видеть из всего сказанного выше, однозначного ответа на вопрос «От чего умер Александр Македонский» у нас так пока нет.
Официально болезнь, от которой царь умер, так и не назвали.
Его друзья считали, что причиной его болезни было чрезмерное пьянство, хотя среди них были и такие, кто говорил о заговоре.
Очевидно только то, что великий царь и полководец был побежден не доблестью и отвагой врагов, а неумеренным питием или тайным заговором тех, кому он доверял.
Не сомненно и то, что, если бы Александр продолжил свой разгульный образ жизни, то рано или поздно столь любимое им вино сыграло бы с ним плохую шутку.
Ибо, как говорили древние римляне: «Multum vinum Inhere, non diu vivere – Много вина пить – не долго жить…»
Селим II: «Он был слишком приверженным наслаждениям и вину»
В 1570 году Османская империя завоевала Кипр.
Особой радости у турок эта победа не вызвала, а великий визирь Мехмед Соколлу откровенно говорил о бессмысленности этого завевания.
И он знал, что говорил.
Усталая донельзя империя как никогда нуждалась в отдыхе.
Более того, именно в это время она должна вести себя в высшей степени осторожно, поскольку завевание принадлежавшего венецианцам Кипра могло вызвать в Европе нежелательный для Стамбула резонанс.
Так оно в результате и случилось, и завоевание Кипра оказалось для империи поворотным моментом.
Говоря откровенно, ничего удивительного в желании завладеть Кипром не было, поскольку, захватив его, османы установили полный контроль над Восточным Средиземноморьем и покончили с несколькими пиратскими обществами.
При осаде Фамагусты погибло 50 тысяч турок – однако османские военачальники никогда не обращали особого внимания на потери.
Венецианский комендант Брагадино сдался на условиях сохранения всех воинских почестей и безопасной эвакуации гарнизона.
Сам же он был чудовищно изувечен, а затем с него живого сняли кожу.
Когда турецкий флот с триумфом вернулся в Константинополь, его набитое соломой чучело висело на рее одного из кораблей.
Как того и опасался великий визирь, нападение на Кипр было повсеместно воспринято как самое настоящее беззаконие.
Хотя, если говорить откровенно, то можно подумать, что все предшествующие завоевания османов вызывали в мире восхищение и являли собой события самого, что ни на есть, легитимного характера.
Чем же так были возмущены в «справедливой» Европе?
«Причина нападения, – писал в своей книге «Величие и крах Османской империи» Гудвин Джейсон, – сочли европейские державы, заслуживала решительного осуждения: прихоть алкоголика, науськанного подстрекателем-евреем.
Султан Селим испытывал сильную любовь к кипрскому вину.
Его собутыльник Иосиф Наси, беженец из Испании, ставший придворным банкиром и первым евреем, возведенным в дворянское достоинство, питал надежду превратить Кипр в убежище для бегущих из Европы соплеменников.
Впрочем, с султаном он говорил о других причинах и убеждал в том, что ему нужно завладеть источником чудесного нектара.
Затею дона Иосифа поддерживала еврейка по рождению Нурбану-султан, мать будущего Мурада III, а противостояла ей жена Мурада, венецианка Сафийе.
Кипр пал, и Селим получил свое беспошлинное вино. Однако на Западе пришли в движение новые силы. Падение Кипра повлекло за собой образование Священной лиги, направленной против турок.
Испания, Венеция, Мальтийский орден и несколько итальянских государств во главе с Римом выставили соединенный флот под командованием дона Хуана Австрийского, внебрачного сына Карла V 7 октября 1571 года он застал османский флот в заливе Лепанто и пошел в атаку».
Мы вряд ли погрешим против истины, если заметим, что Джейсон позволил себе в своей книге немного пофантазировать.
На самом деле все выглядело несколько иначе.
С 1489 года остров Кипр находился под протекторатом Венецианской республики и имел статус её заморского владения.
Турки заинтересовались островом примерно в 1567 году, а с начала 1568 года турецкие агенты начали разжигать недовольство среди населения Кипра, а турецкие корабли разведывали кипрские гавани.
Более того, султан Селим II заключил мирный договор сроком на 8 лет с главой Священной Римской Империи Максимилианом II.
Таким образом, Европа получила некоторую безопасность, а султан – свободные войска, которые он и использовал при завоевании Кипра.
В начале 1570 года представитель Венецианской республики в Стамбуле был проинформирован о том, что Османская империя считает Кипр исторически неотъемлемой частью Османской империи.
Как бы в подтверждение этого османы арестовали многих купцов и захватили главные портовые города.
28 марта 1570 года венецианский дож получил ультиматум: либо Венеция должна добровольно сдать Кипр, либо Османская империя отнимет у неё остров силой.
Венеция обратилась к соседям с просьбой помочь.
Однако ее первый призыв остался без внимания.
Все европейские монархи отказали Венеции в содействии, ссылаясь на мирный договор, который уже ни на что не влиял.
Только Мальтийский орден выделил пять кораблей, но они даже не дошли до пункта назначения – были захвачены турками.
Казалось, что война безнадёжно проиграна, однако год спустя при посредничестве папы Римского Пия V была создана коалиция европейских государств, получившая название «Священная лига».
Войска собрали в сицилийской Мессине в августе 1571 года.
Силы Священной лиги, согласно последующим оценкам историков, стали самым сильным и многочисленным флотом за всю историю Европы.
Флотилию стран Священной лиги возглавлял испанский принц дон Хуан Австрийский, а турецкие корабли вёл Али-паша Мудззин-заде.
Таким образом, силы противников были примерно равны, но союзники имели преимущество: на палубах судов Священной лиги стояли пушки, а абордажные команды были вооружены аркебузами, тогда как противник испытывал недостаток в огнестрельном оружии. Это и решило исход битвы.
Наиболее известным событием турецко-венецианской войны является грандиозное морское сражение, произошедшее 7 октября 1571 года в Патрасском заливе, более известное как битва при Лепанто.
В этой битве сошлись Восток и Запад – сражение происходило между Священной лигой и Османской империей.
К полудню окружение турецких войск было разгромлено и главными целями сражения стали флагманские корабли обоих флотилий.
Османский флот потерпел сокрушительное поражение: из 276 судов было потеряно около 205 кораблей, в то время как испанцами было потеряно лишь 15 судов.
Другое дело, что богатый португальский еврей, появившийся в Стамбуле в последние годы правления Сулеймана I и вскоре ставший закадычным другом будущего султана Селима II, Иосиф Нази, был главным соперником визиря Мехмеда Соколлу.
Именно по этой причине Нази не жалел золота и драгоценностей на подарки престолонаследнику.
Вступив на престол, Селим вознаградил его, сделав пожизненным правителем острова Наксос, отвоёванного у Венеции.
Однако Нази этого было мало, и он добился от султана монополии на торговлю вином на всей территории Османской империи.
Нази имел неплохую сеть осведомителей в Европе и поставлял султану важные политические новости и постоянно посылал в подарок Селиму свои лучшие вина.
Сложно сказать, руководствовался ли Селим II при нападении на Кипр только желанием заполучить «источником чудесного нектара», или же в глубине его отравленной алкоголем души еще теплился дух великих османских завевателей.
Впрочем, второе кажется маловероятным, и не случайно венецианский посол Лоренцо Бернардо писал в воспоминаниях о своем пребывании при османском дворе:
«Султан Селим изложил следующее мнение: истинное счастье короля или императора состоит не в ратных трудах или славе, добытой в сражениях, но в бездействии и спокойствии чувств, в наслаждении всеми удовольствиями и уютом во дворцах, где полным-полно женщин и шутов, и в исполнении всех желаний, касается ли это драгоценностей, дворцов, крытых галерей и величественных зданий».
Именно поэтому он снова назначил на должность великого визиря Соколу Мехмед-пашу, полностью доверив ему управление государством.
Известный дипломат Филипп дю Фресне-Канайе, который в 1573 году служил во французском посольстве, отмечал, что за три месяца, пока он был в Стамбуле, султан покидал пределы дворца лишь дважды, чтобы присутствовать на полуденном богослужении в пятницу.
За исключением эпизодических поездок в Эдирне Селим почти круглый год оставался во дворце Топкапы, проводя большую часть времени в гареме.
Венецианский посол Костантино Гар-дзони сообщал, что Селим обычно входил в этот «сераль женщин каждую ночь для своего удовольствия, через калитку в своем саду».
По словам Гардзони, в гареме жило около полутора сотен женщин, в число которых помимо жен и наложниц султана входили также фрейлины и служанки.
Существует и еще множество свидетельств о том, что султан никогда не интересмовался государственными делами.
– Никакие государственные дела, – говорил он, – не должны мешать наслаждаться утехами плоти и желудка и что в этом и состоит истинное предназначение государя…
«Его высочество, – вспоминал все тот же Бернардо, – пьёт очень много вина, и время от времени дон Иосиф посылает ему много бутылок вина, а также всяческую изысканную снедь».
Ноулз описывал наружность султана следующим образом: «Он отличался тучным станом и тяжелым нравом; его лицо скорее опухшее, чем жирное, совсем как у пьяницы».
Как и Джеймс, Бернардо считал, что именно Нази подсказал Селиму мысль о необходимости захвата Кипра, так как остров славился своими превосходными винами.
Более того, Селим обещал Нази сделать его королём Кипра, однако обещания не сдержал, поскольку после кипрской кампании великий визирь убедил султана оставить своего фаворита.
Нази скончался в 1579 году разочарованным и обиженным человеком.
Если верить Гардзони, Селим входил в сераль каждую ночь через калитку в своем саду.
Если султан задерживал свое внимание на одной и включал ее в число возможных наложниц, она получала статус «гёзде», что в буквальном переводе означает «на глазу».
После этого девушке отводили отдельные покои и готовили ее к встрече с султаном.
Если после первой ночи, проведенной с султаном, девушка сохраняла его расположение, она становилась султанской наложницей.
Если ее сын наследовал после смерти султана его трон, она становилась «валиде султан» и в силу этого титула являлась полновластной хозяйкой гарема.
В гареме Селима распоряжалась Нурбану, которая, будучи матерью его старшего сына и наследника Мурада, обладала титулом первой жены.
Она была фавориткой султана, и он ее нежно любил.
Венецианский посол Джакопо Сорандзо писал в 1566 году: «Говорят, что Его Величество горячо и преданно любит «хасеки» как за ее красоту, так и за ее необычайный ум».
Став султаном, Селим взял в свой гарем еще несколько наложниц, и они родили ему еще восемь детей, в том числе шесть сыновей.
Тем не менее, Нурбану по-прежнему была его фавориткой.
Как заметил венецианский посол Андреа Бадоара в 1573 году, Его Величество всячески благоволит к ней».
Женщины гарема Селима II находились под охраной восемнадцати черных евнухов.
Самым влиятельным чиновником Внутренней службы считался главный черный евнух.
Правление Селима II было периодом в истории Османской империи, который получил название «Султаната женщин», потому что некоторые могущественные и решительные женщины гарема оказывали значительное влияние на государственные дела.
В последние годы своей жизни Селим проводил значительную часть своего времени в обществе своей бывшей кормилицы – матери Шемеи Ахмеда-паши.
Венецианский посол Гардзони писал в 1573 году: «Султан проводит большую часть своего времени за игрой в шахматы с матерью Ахмеда-паши, пожилой женщиной, которая прежде была его кормилицей».
Кормилица Мехмеда II Завоевателя стала очень богатой после того, как ее питомец занял престол и назначил ей доход от нескольких мечетей.
Большое удовольствие Селиму доставляло выращивание цветов в дворцовых садах.
Селим II не был лишен и поэтических дарований, о чем свидетельствует несколько написанных им газелей, которые дошли до нашего времени.
По большей части в них воспеваются наслаждения, доставляемые любовью и вином, примером чему могут служить заключительные строки его лучшей газели:
О, дорогая, Селиму дай твои уста цветов пурпурного вина
И мои слезы преврати отсутствием своим в вино, любимая,
Окрась их в красный цвет, который крови подобает…
15 декабря 1574 года Селим упал пьяным в ванну в гареме дворца Топкапы и захлебнулся.
Ему шел пятьдесят первый год, и он провел на троне восемь лет и три месяца.
Эвлия Челеби, упоминая о кончине Селима-Пьяницы, пишет: «Он был добродушным монархом, однако слишком приверженным наслаждениям и вину».
Генрих VIII: «Самый непереносимый мерзавец»
Именно так оценивал печально знаменитого короля Англии Чарльз Диккенс.
«Самый непереносимый мерзавец, – писал он, – позор для человеческой природы, кровавое и сальное пятно в истории Англии».
И, наверное, Генрих VIII заслуживал столь нелестной оценки великого писателя, поскольку и по сей день никто не знает, сколько кровушки он пролил.
В юные годы Генрих получил хорошее образование, был даровит, обладал твердым характером, был целеустремленным.
Он не жаждал ратной славы, разоряющей страну, предпочитая решать межгосударственные вопросы дипломатическими методами.
Младший сын Генриха VII, он не был наследником трона. Трон должен был занять его старший брат Артур, женатый на принцессе Катерине Арагонской.
По странному стечению обстоятельств совершенно здоровый Артур внезапно умер.
Так к Генриху перешла и власть над государством, и красавица жена брата.
Англия ликовала, когда в 1509 году на престол он вступил восемнадцатилетний король, который всем казался благородным, смелым и добрым.
Об образовании и говорить не приходилсь. Генрих пркрасно говорил на латинском и греческом языках, хорошо играл на лютне, слагал поэмы и уквлекался богословием.
С ранних лет его отличал недюжинный талант оратора и руководителя.
Он увлекался турнирами, музыкой, философией, а также пирами.
Возможно, даже чересчур.
Но, наверное, иного и нельзя было ожидать другого от человека, которому с трех лет давали неразбавленное вино?
Старая добрая Англия радовалась новому королю и надеялсяь на то, что именно он начент эпоху гуманизма и благоденствия.
Но не так-то было!
Очень скоро о гуманизме и благоденствии забыли, посокольку главный талант молодого короля выразился в поглощении еды и горячительных напитков в неограниченных количествах.
Особенно он стал попивать после женитьбы на Екатерине Арагонской.
Современные исследователи и психиатры утверждают: Генрих не просто много пил, он был тяжело больным алкоголиком.
Его главный биограф Джаспер Ридли пишет: «Англия управлялась личностью, разрушенной алкогольным психозом».
В книге «Секретная история алкоголизма» психиатр Джеймс Грэхем, хорошо изучивший биографию короля, вынес диагноз: «алкогольный бред ревности, алкогольная паранойя».
Понятно, что все это сказалось на его отношении к женщинам, которых он менял без сожаления.
Но если женщин он менял, то своих жен король так же безжалостно убивал, за что и полчил прозвище Синяя Борода.
Не оправдал он и народных чаяний и прославился, как человек с прескверным нравом.
Жестокий тиран, после смерти отца он продолжал вести его политику по укреплению королевской власти.
Синяя Борода был женат шесть раз, если и не по любви, то по большой симпатии.
Его жены, за каждой из которых стояла определенная политическая или религиозная группировка, заставляли порой вносить изменения в свои политические или религиозные приоритеты.
Как мы уже говорили, первой супругой Генриха стала Екатенрина Арагонская, жена так вовремя почившегося брата Артура.
Как было принято, ребенку с трех лет подают вино, разбавленное водой.
После коронации женится на Екатерине Арагонской. Начинает много пить.
Особое предпочтение он отдавал джину, называя его «вкуснейшим из напитков».
Достаточно сказать, что каждый год к личному столу Генриха VIII из Франции приходили 16 судов с вином.
Именно он разрешил выращивание и переработку хмеля в Англии, что раньше было строго запрещено.
В 1524 году в свите Екатерины Арагонской, которая уже порядком надоела королю, монарх заметил новое симпатичное личико.
Это была Анна Болейн, дочь одного из сановников короля, графа Томаса Болейна.
Истосковавшийся по любви монарх мгновенно влюбился, и судьба девушки была решена.
Помолвка с прежним женихом лордом Перси была расторгнута, и Генрих начал приготовления к новой свадьбе.
Однако оставалось еще одно «незначительное» препятствие – законная жена.
Генрих уже давно тяготился Катериной, даже их общая дочь Мария не возбуждала в нем отцовских чувств.
Однако разрешение на расторжении брака мог дать только глава католической церкви в Риме.
Не дождавшись положительного ответа, томящийся от желания поскорее жениться, Генрих VIII в 1530 году собрал парламент, и тот принял законы, освобождающие английскую церковь от подчинения Риму и объявляющие английского короля верховным главой англиканской церкви.
– Теперь я буду вашим Папой! – насмешливо заявил по этому поводу сам король.
Надо ли говорить, что примас новой церкви тут же расторг затянувшийся брак Екатерины Арагонской и Генриха VIII.
В 1533 году Генрих обвенчался с Анной Болейн, в сентябре у них рождается дочь Елизавета.
Если оценивать этот брак с политической точки зрения, то страсть короля стоила разрыва с Римом, ликвидации католицизма и его учреждений в стране и охлаждения отношений с Испанией.
Эта самая старсть длилась всего два года, после чего Генрих нашел, опять же в свите супруги, новый объект вожделения, фрейлину Джейн Саймур.
Это была полная противоположность Анне: белокурая, бледная, очень тихая и со всеми во всём согласная.
Если Анну все сравнивали с колдуньей, и даже с ведьмой – она была худа, темноволоса и черноглаза, то Джейн куда больше походила на светлого ангела.
Жена и не подумала давать ему развод. Однако Генрих и не подумал отчаиваться.
Да и зачем? Если нельзя по-хорошему, то можно по-плохому. И если не развестись, то «убрать».
Предлог находится быстро: супружеская неверность. И вот уже «доброжелатели», всегда готовые помочь любимому королю, принялись за розыски «доказательств».
Очень скоро они нашли его.
На одном из балов королева потеряла перчатку. Ее нашел и вернул владелице влюбленный в нее Генри Норис.
«Недремлющее око» приняло это на заметку. Непринужденность в общении с братом, лордом Рошфором, дает предлог для обвинения в кровосмешении.
Замечено еще несколько дворян, влюбленных в королеву.
Один из них, Смитокс, за «умеренную плату» дал обещание свидетельствовать о супружеской неверности.
15 мая 1536 года Анне отрубили голову по обвинению в «государственной измене», иначе говоря – за измену самому королю, которую так никто и не доказал.
Ее дочь, также как и Мария, лишена права на наследование престола.
На следующий день новоиспеченный вдовец венчается с Джейн Саймур.
Но ее тоже ждала несладкая жизнь, и тихая и скромная девушка целый год налюдала за бескончеными пяьнками мужа, которые не редко заканчивались самыми настоящими оргиями.
А потом случилось непредвиденное, и молодая королева мучилась в родах более двух суток.
Нужно было выбирать – мать или ребенок.
Лекари, зная взрывной характер государя, даже боялись заикнуться об этом.
– Спасите ребенка, – спокойно приказал король. – Женщин я могу достать столько, сколько угодно, был решительный и спокойный ответ.
Король не очень дорожил любимыми женщинами, и в Европе монарха, так хладнокровно избавлявшегося от жен, начали побаиваться.
Слухи о том, что король убивает своих жен, распространялись как чума.
После смерти Джейн Сеймур Генрих VIII озаботился поисками новой супруги. Не желая вновь связывать себя узами родства с испанскими монархами, он решил подыскать себе жену-француженку.
У короля Франциска была дочь Маргарита, а у герцога де Гиза – Рене, Луиза и Мари.
Генрих уведомил Франциска о желании встретиться с благородными девицами в Кале, чтобы выбрать самую достойную из них.
Франциск отклонил предложение, заметив при этом, что француженок не принято выставлять «словно рысистых скакунов на ярмарке».
Потерпев неудачу с французскими невестами, Генрих обратил внимание на недавно овдовевшую герцогиню Кристину Миланскую.
Но та ответила посланникам короля, что она не жаждет выходить замуж за Генриха, ибо «его Величество так быстро был избавлен от прежних королев, … что её советники полагают, будто её двоюродная бабушка была отравлена, а вторая жена безвинно казнена, а третья потеряла жизнь из-за неправильного ухода за ней после родов».
Из-за скандальной личной жизни Генрих снискал настолько зловещую репутацию на континенте, что ни один европейский государь не желал выдавать за него дочь или сестру.
Одна из потенциальных невест, Мари де Гиз, остроумно ответила на предложение Генриха, что хоть она и высокого роста, да только шея у неё короткая.
К 1538 году отношения английского королевства с католическими европейскими державами значительно ухудшились, а Папа в очередной раз объявил об отлучении Генриха от церкви.
Поддавшись настойчивым рекомендациям Томаса Кромвеля, король вознамерился посредством брака заручиться поддержкой какого-либо протестантского государства.