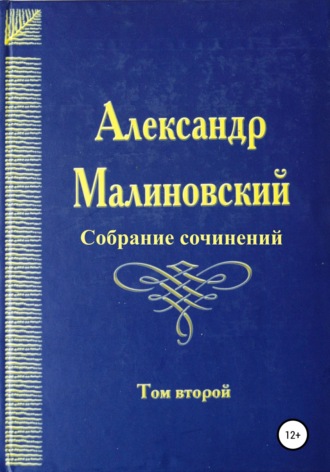
Александр Станиславович Малиновский
Собрание сочинений. Том 2
VI
Наконец-то Александр решился позвонить Шостко.
– На вызове, скоро приедет, – ответил женский голос.
Ковальский, взяв свою заветную тетрадь с наиболее удачными, как казалось ему, стихами, пошёл на станцию «Скорой помощи».
…Женщина у телефона указала на дверь в соседнюю комнату:
– Владимир Владимирович там. У него на вызове умерла молодая больная.
Ковальский замер: «Идти или нет?».
– Идите, пока нет следующего вызова, – прозвучало за спиной.
Накануне Александр перечитывал стихи Шостко. Теперь выплыли отчётливо четыре строки:
Я делаю всё то, что надо делать…
Но сколько раз в клинической тиши
Я видел, как сгорало чьё-то тело
На ледяном безмолвии души!
«Ну, какие рыжие тёлки и братаны? – Вспомнил Александр стихотворение Никульшина. – Разве можно сравнивать…»
Ковальский открыл дверь. Поэт и врач сидел одиноко за небольшим столом. В одной руке – кусок колбасы, в другой – хлеб. Он механически жевал. Серое землистое лицо с огромным, вполовину лица, матовым лбом угрюмо.
– А-а, стихи принёс, – сказал вяло, не здороваясь.
Ковальский смешался. Уйти поздно. А вести разговор, которого так ждал, казалось, было не к месту.
– Может, я пойду… – вырвалось у Александра.
– Иди, – глухо ответил Шостко. – Тетрадь и листочки оставь, посмотрю. Потом позвонишь…
Ковальский вышел и остановился у зелёной ограды.
Кругом сновали машины, шли люди. Перед зданием за оградой стояли парни. Там, оказывается, был роддом. Окна его светились радостно и жизнеутверждающе. Долговязый детина весело демонстрировал зелёную красивую коляску.
– Она двойная, смотри! Раскладывается!
Худенькая женщина в окошке счастливо улыбалась.
Ковальский шёл в общежитие между жёлтых коробок домов и сквозь шуршание шин автомобилей звучали в его ушах строчки незнакомого поэта:
Я уйду в заливные луга,
Там братан рыжих тёлок пасёт…
Жизнь продолжалась… О своих стихах Александр сейчас не думал. Хотелось простора и весеннего майского неба. Какое бывает над заливными лугами…
* * *
За приговором Ковальский пришёл недели через полторы. Они условились встретиться в парке со старинными дубами за кинотеатром имени XX Партсъезда.
– Я отдал в редакцию «Волжского комсомольца» несколько стихотворений. Там обещали напечатать, – сказал Шостко, протягивая тетрадь Ковальскому.
В его словах ни восторга, ни удивления. Только исполнение обещанного.
– Отдельные строки просто хороши, вне всякого. Но порой гуляют интонации Пушкина, Есенина…
Ковальский вздрогнул. Ему показалось, что сейчас его собеседник скажет нечто такое, что взбодрит его: такие имена названы!
– Вы показывали ещё кому-нибудь свои стихи?
– Нет, только вам.
– Покажите. Я могу ошибаться. Поэзия – такая штука… Но мой совет: читайте классиков. Хотя бы для того, чтобы не повторяться. В областном центре есть литературное объединение «Молодая Волга», сорок минут на автобусе. Попробуйте поездить, хуже не будет. Помните всегда об образе. Душа отзывается на образ. Чем художественней, то есть образней, текст, тем больше он работает. КПД воздействия текста бывает больше единицы. Ибо читатель воспринимает образы душой. И образы по-своему многократно усиливаются. У каждого по-разному. Это азы, понимаешь?
«Недавно ругал меня за техницизмы, за «стоп», а сейчас это его «КПД» – как понять? – думал Александр. – Хотя тут устная речь поэта, а не стихи…»
– Образ во главе всего! Техническое образование, вернее, мышление – хорошо. Но для поэзии нужно нечто иное… – продолжал поэт.
Они шли по аллее парка, мимо высоких кряжистых дубов. Было пустынно и холодно.
Я видел, как сгорало чьё-то тело
На медленном безмолвии души! —
крутились в голове Ковальского строчки поэта.
«Смогу ли подняться на такую высоту? – волной захлестывала мысль, – поэзия должна мучиться над вопросами, на которые нет ответа, – так он сказал. Но, ведь, это намеренный бег по кругу?»
– Вы верите в существование души? – спросил Ковальский, когда они остановились около мощного дуба и Шостко, запрокинув лицо в холодное пасмурное небо, смотрел на шелестевшие жёлтые, пожухлые листы на кривой макушке дерева.
– Чудной вопрос, существование души очевидно…
– Но ведь столько людей не верит?..
– Это их дело! Труднее всего доказывать, что белое есть белое. Доводов нет, понимаешь?
– Пока не очень, – признался Александр.
– Ещё полсотни лет пройдёт и учёные ткнутся в необходимость признать существование души, а пока они, учёные эти, вовсе и не учёные… Странно, что это говорит врач? Я, отпетый циник, говорю, а они – молчат… – Он погрозил кому-то меж деревьев пальцем: – Погодите! Поплатитесь! Вернее, поплатимся…
Это был тот поэт, с которым они шли совсем недавно ночной улицей. И – не тот. Часть – наружи, а самая мощь – чудовищно огромная, невидимая – только угадывалась.
«Какое сомнительное дело – литература. Как всё зыбко и неопределённо в ней, – думал Ковальский. – Надо всего себя принести в жертву – тогда ещё можно на что-то надеяться, а делить себя на половинки – пустое дело…»
Они расстались без намёка на следующую встречу.
* * *
– На столе листок с женскими именами. Святцы какие, что ли? – спросил Ковальский, перекладывая стопки книг.
Свинарёв внушительно пояснил:
– Это список тех, с кем спал. Больше двух десятков за четыре года.
У Ковальского дёрнулось лицо. Николай заметил и добавил:
– Сам понимаешь, город молодёжный, бурлит всё… Но я осторожным стал. Окромя одной – ни с кем. Ну, иногда с Мариной… Она в горкоме уже. Я теперь член городского комитета народного контроля. Ага! А как ты хотел? Все торгаши у нас в кулаке. С которой встречаюсь, не с Мариной, – продолжал он доверительно, – всё нормально. Понимаешь: сплю с ней, фамилия у неё, что надо, а замуж идти не хочет. Нерешительная какая-то. – Свинарёв помолчал немного и, прицелившись своим знаменитым взглядом, спросил: – А ты – монах, что ли? Такой красавец! Хоть с одной встречался по-серьёзному? Аль нет?
Ковальский слушал, смотрел на него и видел только глубоко посаженные, мерцающие тёмной глубиной карие глаза и мелкие острые плотоядные зубы. Становилось не по себе.
«Тошно, надо всё-таки куда-то переселяться».
…Переселился он вскоре.
Вернувшись из поездки к сыну, Ковальский обнаружил пропажу осеннего пальто, выходного костюма, рубашек и даже перчаток… Не было и красивого малинового толстой вязки джемпера, который он ещё ни разу не успел надеть.
Ребята на этаже говорили, что дверь комнаты была открыта, Свинарёв валялся на кровати пьяный.
Это не походило на Николая. Но косвенное доказательство возможного запоя было: Свинарёв постоянно держал в шифоньере графин со спиртом заводского производства, прозывавшегося «шадымом». Настаивали этот самый «шадым» на дефицитных лимонных корках. Теперь графин пуст и лишь сухие потемневшие корочки, как некие кораллы, покоились на дне скучного сосуда.
Его хозяин всё отрицал, а Ковальский, заявивший, было, о пропаже в милицию, вскоре махнул рукой на всё, убедившись при общении со следователем в явной бесперспективности поиска.
Через неделю после этих событий он переселился в другое крыло этажа, к Суслову.
VII
В один из майских дней, сразу после многоголосых праздников, Ковальского пригласили к главному инженеру.
– Заходите! – сказала секретарь. – Вас уже ждут.
– Ничего себе «ждут»! – искренне удивился Ковальский. – Я не опоздал. Прийти раньше не значит прийти вовремя.
Секретарь мягко улыбнулась.
В кабинете, кроме хозяина и Самарина, незнакомый кряжистый человек лет сорока пяти.
Когда Ковальский после приглашения сел, главный инженер начал с места в карьер:
– В шестом цехе, вот, познакомьтесь – его начальник Ганин Василий Анатольевич, – кивнул он на кряжистого, – увольняется заместитель. Цех тяжёлый, не скрываем. Причём опасный. Без зама долго не может.
Главный испытующе посмотрел на Ковальского. Тот сидел, не шелохнувшись.
– Не удивляет, что предлагаем тебе такую серьёзную должность?
– Нет. Только почему именно в этот цех?
Начальник цеха то ли крякнул, то ли поперхнулся при таком ответе.
«С чего бы это он? – недоумевал мысленно Александр. – Так тяжело ему там работается?»
– Не будем торопиться, – произнёс Самарин. – Сходи, посмотри, через день-два скажешь, что надумал.
– Хорошо. Конечно, схожу. Через два дня буду готов для ответа.
– Но у нас условие, – произнёс главный инженер. Он посмотрел на начальника цеха. – Оставляем условие?
– Конечно, конечно, – торопливо ответил тот.
– Сначала поработаешь начальником смены после сдачи экзаменов. Надо знать всё досконально, а потом уж – и в заместители…
– Сколько продлится работа начальником смены? – Александр задал вопрос, думая про себя: «А кто же в это время будет исполнять обязанности заместителя? Там, наверное, есть претенденты».
Главный легко угадал его мысли.
– У нас есть начальник отделения – практик без высшего образования. Он поработает заместителем столько, сколько надо.
– Понятно, – ответил Ковальский, а про себя добавил: «Опыты ставят надо мной, осторожничают…».
* * *
…Новый цех поразил.
Если тот, в котором он работал, возглавлял технологическую цепочку и давал сырьё всем производствам предприятия, то этот, замыкая её, вырабатывал конечную продукцию.
Жёсткие параметры процесса: температура – до пятисот градусов, давление – около ста атмосфер – говорили сами за себя.
Александр походил по рабочим местам. Почитал инструкции, приехав для этого в «бешеный выходной» – последний день после ночных смен.
В цехе во всём просматривались дисциплина и слаженность. «Немудрено, – заключил Ковальский про себя, – этого требуют его особенности». Он насчитал несколько ситуаций в инструкции, которые, если не принять в несколько минут оперативных мер, могли привести к взрыву.
…Когда Александр вошёл в кабинет, пухлое розовощёкое лицо увольняющегося зама было неприветливо. Ковальский представился и сказал, что хотел бы поговорить.
– Слышал твою фамилию, – отозвался тот как бы нехотя. Потом, не отрывая взгляда от стола, произнёс: – И зачем ты сюда идёшь? – Голос у него тонкий и дребезжащий.
– Работать!
– Здесь нельзя нормально работать, понимаешь?
– Пока нет.
– Сейчас поймёшь! Иди смотри!
Он взялся за ручку и выдвинул левой рукой ящик стола.
– Иди, иди! Смотри!
Идти и смотреть было неудобно. Надо обойти восседавшего за столом хозяина кабинета, но его стул прижат к стене.
– А-а! – спохватился тот. Встал, задвинув стул в нишу стола, и отошёл в сторону. – Смотри!
Ковальский недоумевал: к чему эти манёвры?
В ящике оказались конфеты в ярких обёртках.
– Видел?
– Но… не понял, – ответил Ковальский. Ему начинала надоедать эта морока.
Розовощёкий пояснил, словно школьнику.
– Это «взлётные»! Дошло? Здесь каждую минуту находишься, будто на взлётной полосе. Момент – и ты взлетел. Такая технология.
– И ничего нельзя сделать?
– В Союзе семь таких цехов. Я посчитал: каждый второй год где-нибудь да грохнет. У нас последний раз было в шестьдесят четвёртом году. Такой же цех, только на первой очереди производства – под ноль. И пять смертей. Так что сосём «взлётные»… Ты обратил внимание, что цех на окраине завода? Неспроста: в случае взрыва меньше потерь.
Ковальский намеренно не отреагировал на услышанное. Спросил:
– И куда уходите?
– В Комсомольск-на-Амуре, заместителем главного по технике безопасности.
– Далековато!
«Так вот она какая, моя взлётная полоса, о которой говорил с двоюродным братом Пудовкиным».
– Беги, пока не поздно! – посоветовал розовощёкий.
«Чего он такой раскрасневшийся, словно только что по морозной лыжне бежал? – удивился Ковальский. – Разволновался…»
К проходной Ковальский шёл неторопливо. Пытался всё проанализировать. Советоваться не с кем.
За проходной встретил Сашку Караваева, с которым работал до перехода на дневное обучение.
– Голова, здорово! Я тебя пару раз издали видел. К нам на завод после института вернулся? Зря, думаю. Тут не прорвёшься, всё везде схвачено! И не мечтай в заводоуправление попасть. Не по уму берут… Свои везде.
– Да ладно, Сашк…
– Нечего ладить. Я третий год, как институт кончил. Пашу в рабочих, а у меня ещё и военное училище есть… Вон наш Сергейчев, замначальника цеха, смекнул давно, какие манёвры делать надо. Он может так, а я – нет.
– Ну и какие?
– Навострил лыжи в партком. Говорит, надо немного побыть секретарём, потом инструктором горкома партии. Зачем в борозде-то пыхтеть? Можно и около. Партийная должность – это такая добротная подкладка. Его слова. Из инструкторов горкома на должность ниже заместителя директора не прыгают! Смекаешь?
– Все помешались, что ли, на должностях?! Все трамплины ищут! А кто дело-то будет делать?
– Ладно, Ковальский, поработаешь теперь, поболее увидишь. Кое-что смекать начнёшь… Наивный пока – молодой специалист… А такие, как Сергейчев… Они страну крепко отяжелить могут… балласт.
…Через день Ковальский согласился на переход в шестой цех. «И Хризантеме легче, – вспомнил он о своём однокурснике. – Место освободится, кому, как не ему…»
…А Хризантема, закончив институт, привычек своих не менял. Всё как-то сам по себе. Вскоре женился и выписался из рабочего общежития.
Прошло ещё полгода, Хризантему не торопились назначать начальником смены. Стало известно, что выпивает в рабочее время с дружками. Руководство занесло его в «чёрный список».
Многих сгубила спиртовая река, протекавшая в цехе на окраине завода. Ручейки от неё растекались по всему заводу. И не только…
«У реки – и не напиться!» – провозглашали даже уже начавшие тонуть. Их хватало лет на пять-семь. «Горели синим пламенем» и дым улетучивался в никуда… Приходили другие…
* * *
Два стихотворения Ковальского напечатали через неделю после последнего разговора с Шостко. Такой оперативности Александр не ожидал.
Свои стихи в областной газете он обнаружил случайно, просматривая подшивки в красном уголке общежития. Номер был прошлого дня.
Ковальский быстро оделся и выскочил на улицу. «У ресторана, в котором мы сидели с Владой, есть газетный киоск, ещё один стоит около кинотеатра! Где ещё? У нас на заводе на автобусной остановке. Где-нибудь да остался хотя бы один экземпляр», – соображал Ковальский, шагая наискосок через двор к киоску «Союзпечать» в начале главной улицы города.
Нужной газеты в киоске не было. Он скорым шагом направился на площадь. И там не оказалось. Около кинотеатра ему повезло.
– Вот три газеты остались, – сказала полная чернявая девица и равнодушно зевнула.
– А ещё, посмотрите, нет?
– Куда ещё-то, солить, что ли?
Ковальский взял и, не удержавшись, в сторонке развернул одну из них.
«Раз газета опубликовала, то, может быть, стихи стоят того? То, что Шостко передал их, – это не по блату же? Не по протекции? Это совсем другое! Или и здесь: ты – мне, я – тебе? Так в искусстве не должно быть! Нет в этом опыта. Трудно разобраться».
* * *
Ковальский всё-таки решил побывать на заседании литературного объединения.
Непростое это дело – выкраивать время для поездок в областной центр при суматошной работе в три смены.
На четвёртом занятии дошла очередь до него.
– Знаете, в ваших стихах, как бы это сказать… – руководитель объединения пожевал губами, выдержал паузу и договорил внушительно: – не чувствуется знания жизни, не виден жизненный опыт. Всё слишком общее. Нет конкретики, без которой жизнь бедна, тем более – искусство.
– А какая конкретика нужна? – упавшим голосом спросил Александр.
Мэтр не спеша пояснил:
– Ну, вот, идёте по улице и у вас развязался шнурок на ботинке. Деталь?
Ковальский молчал, не понимая: надо ли отвечать и что отвечать?
– Деталь! – ответил сам себе наставник поэтической молодёжи. – Вот об этом и пишите!
– А что же тут писать? О чём? – удивился Александр.
– Ну, как? Об этом самом и пишите! Кстати, не пробовали писать прозу? – Завитушки дыма у курившего и одновременно говорившего человека, казалось, смешались в одно с его словами и получалось нечто искусственное и похожее на шаманство… – Попробуйте, у вас может получиться…
О шнурках Ковальскому писать не хотелось. Он решил, что такие занятия в литобъединении ему ни к чему.
Спустившись вниз, в холле второго этажа увидел известного поэта, у которого вышло уже несколько книг. Его имя в области на слуху.
«А-а, была не была», – решился Ковальский.
Поэт был не один. Рядом – холёная женщина с ленивыми грациозными движениями.
«Конечно, я, как с парашюта, сейчас на них прыгну. Не очень-то. Но куда мне деваться? Когда я ещё со своими рабочими сменами могу его встретить?»
Он не помнил отчества поэта, а по имени обращаться неудобно.
– Скажите, вы не могли бы посмотреть мои стихи?
«Боже мой, я, как Есенин в валенках перед Зинаидой Гиппиус. Сейчас спросят: что это у вас за гетры?»
Женщина томно и вяло взглянула на Ковальского и стала смотреть в окно.
Поэт с расстановкой, негромко выговаривая каждое слово, сказал доверительно:
– Молодой человек, я в своих стихах запутался. Никак не разберусь, а в чужих – и подавно… Извините…
«Барчук хренов, я ещё по стихам твоим тебя понял», – подумал Ковальский и двинулся к выходу.
Уже на улице, окинув взглядом огромное здание, из которого вышел, произнёс:
– Сюда я больше не ездок!
VIII
…Два раза вспыхивали, было, огоньки в личной жизни Ковальского, когда казалось, что он влюбился. Но быстро гасли. Становилось скучно. Не было того очарования, которое дарила Анна.
«Две женщины: Анна и Влада, каждая по-своему, выбили меня из колеи надолго, если не навсегда», – так Ковальский подумал однажды и вынужден был согласиться с этим. Он утратил желание с кем-либо встречаться.
«Не женюсь лет до тридцати – это точно, – спокойно подытожил он размышления. – Ведь это я себе ещё в школе определил. Забыл?»
А мать потихоньку, когда он приезжал, вздыхала:
– Больно уж раньше прыткий был, а теперь сидишь, как старичок… Долго ли так? Жены нет, сын живёт у родителей Анны. Ладно бы, Аня жива была, а то ведь нету её… И женой она тебе не была…
…Ковальский, хотя и определил себе холостяцкий срок до тридцати, но совсем не уверен: жениться ли вообще? Иногда на него находила хандра.
Он начинал подозревать, что по-настоящему счастлив не будет. Ему словно кто-то нашёптывал это. Часто не мог от этого голоса отделаться. Хотел быть счастливым, пусть не сейчас, пусть намного позже… Хотел и боялся счастья. Инстинкт подсказывал, что счастье недолго, потом может последовать крах. Так уже с ним было. Александр не хотел повтора. И себе не признавался, что начинает бояться такого счастья. Казалось, что сейчас уравновешенная жизнь важнее всего. Важно согласие, лад в душе.
«Хуже, чем старичок, – невесело усмехался он, помня слова матери. – Как она может так угадывать? Ей дано от природы? Она это говорила не только в связи с моим холостяцким образом жизни, её беспокоит моё неверие в жизнь. Я порой так остро чувствую каждый день, уходящий в никуда, в бездну, безвозвратно. И от этого мне не только грустно. Тоскливо. Жалею уже те дни, которые не наступили, которые ещё не прожил. И только моё дело, работа захватывает. Если работа навязывает властно свой ритм, тогда, на время, забываю о зыбкости жизни. И, может, это самые лучшие моменты моего существования? Да ещё встречи с сыном».
Приняв, что счастье быстротечно и обманчиво, и необходимы, видимо, какие-то особые свойства характера, чтобы быть готовым к этому обману, он не постигнул того, чего же ему не хватает. Перестав верить в возможность счастья, пытался холодно понять: это его прорыв в некую суть бытия? И это положительно? Или – ущербность натуры, и от этого многое теряется? Эта захватывающая душу размагниченность порой лишала воли к активной жизни. Но Александр знал: периоды грусти и тоски чаще всего предшествуют взрывам неодолимого стремления действовать, не жалея себя, чтобы потом радоваться зримым результатам! Таким тогда он себе нравился. Ему не нужны были похвала и одобрение окружающих.
* * *
В этот раз он приехал в село поздно. Уже смеркалось. Так хотелось увидеть сына!
– Мам, я – к Бочаровым.
– Подожди, отца проводим в клуб на дежурство и сходим вдвоём.
…Когда они вошли, Бочаровы чаёвничали в передней. Саша тут же выскочил из-за стола, чуть было не наступив на большого белого кота Колчака, растянувшегося около тёплой голландки. Повис на шее отца.
– Во-во! – сказал Бочаров-старший, – восемь лет уже, а как маленький.
– Не маленький. Я соскучился, – отвечал внук, помогая отцу снять куртку.
Потом с курткой юркнул в прихожку к вешалке.
– Как юла, – радостно проговорила Екатерина Ивановна.
– Говорит: не маленький, – продолжал Бочаров, – а дал ему вчера «тулку» стрельнуть в сороку, он курок не осилил нажать. Нашёлся мне большой…
– А зато я, – заторопился вернувшийся Саша, – в классе на линейке стою третий по росту. Нормально?
– Ну-ну, – неопределённо отреагировал Бочаров, одновременно освобождаясь от рук внука. Тот, балуясь, вынырнул сзади, прикрыл деду ладошками глаза.
– Саша! – строго посмотрела на него Дарья Ильинична. —
Разве так можно?.. Садись…
Внук сел за стол. Начал дуть на чай.
– Да он уж десять раз остыл, – сказал дед.
– Мне интересно, как волны в чашке делаются!..
– Ну, какой он большой? – улыбаясь, обронил Бочаров.
– На вот! – протянул Ковальский свёрток.
– Что это?
– Смотри!
– Рубаха! – обрадовался сын. – Белая!
Они пили чай, потом резались с сыном в шашки на «щелбаны». После четвёртой партии сквитались, получив каждый по два щелчка в лоб. Дед Бочаров в игру не вмешивался. Читал газету. А женщины вполголоса разговаривали на кухне, изредка поглядывая в сторону расположившихся на диване игроков.
…Когда шли обратно, Екатерина Ивановна вздохнула:
– Рубаха – это хорошо, конечно…
– Мам, я немного денег оставил, каждый раз привожу…
– Без матери растёт, без материнской ласки…
– Мам, они его заласкали, по-моему, балуют.
– И это верно, – согласилась она. – Но всё равно…
– Ты – за старое, – засмеялся сын. – Меня непременно женить хочешь?
– Хочу, Саш… А то скоро уже твоего сына женить надо будет…
– Вот найду такую, чтоб матерью сыну стала – женюсь.
– Найдёшь ли такую? – покачала головой Екатерина. —
Надо, чтобы любила тебя и добрая была…
Некоторое время шли молча.
Мысли Екатерины Ивановны перескочили на другое.
«Когда мне старик-то гадал на бобах, в войну ещё, то сказал, что без вести пропавший Станислав объявится, когда мне это уже не надо будет. Мне. А он на сына и внука посмотрел бы! Что старик имел в виду? Мне не надо будет – это значит, вернётся, когда я умру? Или при жизни ещё? А мне бы сейчас хоть одним глазком увидеть. И всё! И чтобы Василий не знал…»
– Мам, – вывел её из задумчивости сын, – мне так хочется, чтобы Саша фамилию «Ковальский» носил. Ты-то вот, в своё время, настояла и мне фамилию отца записали, хотя вы и не зарегистрированы в браке были.
– Кто же нас зарегистрировал бы: он – иностранец и война шла…
– Саша даже не Бочаров, мне эта фамилия нравится. Он —
Колесников, по мужу Анны.
– А как по-другому могло быть? – она пытливо посмотрела на него.
Сын стушевался и ничего не ответил.
– Саша, а ты об отце-то, Станиславе, ничего так и не узнал?
Александр ждал этого вопроса. Не сегодня, так в другой свой приезд.
…Он, как мог, занимался поисками отца, но результаты неутешительны.
Когда пришли, спать легли не сразу. Сидели за столом в передней. Был и чайник на столе. Говорили о Саше – сыне Ковальского и его деде – Станиславе, так внезапно пропавшем при освобождении своего родного города Варшавы.
В областном архиве Ковальскому сообщили, что за 1943–1945 годы никаких сведений о Станиславе Ковальском нет.
А до этого он перерыл в сельсовете кипы бумаг, пока не наткнулся на запись в похозяйственной книге за 1943–1945 годы:
«Ковальский Александр Михайлович г. рожд. 1919
Ковальская Екатерина Ивановна г. рожд. 1918
Ковальский Александр Станиславович, сын, 1944 г.»
– Как же так, ведь известно же, что отца звали не Александр, а Станислав.
Ему пояснили:
– Это ж похозяйственная книга, записи в неё вносились при обходе дворов. Ходили чаще всего школьники. Их приглашал сельсовет. Они спрашивали. Что слышали, то и записывали. Бабулька какая-нибудь сказала, вот и всё… И всех на одну фамилию записали, хотя не были зарегистрированы…
– Ничего себе, – удивлялся Александр, – человек был, как песчинка. Затерялся и следа не осталось?
– Время военное. Что взять? А кто из нас, сейчас живущих, думает о том, что будет через тридцать-пятьдесят лет? Кто кого искать будет? Мы все на глазах живём. Всё, вроде, знаем. Раз он иностранец, наверное, о нём в других местах сведения искать надо, а не тута, – деловито говорила седовласая женщина. – Старшая моя сестра хорошо его помнит. Симпатичный такой, говорит, был.
Ковальский долго не выпускал книгу из рук. В ней был след людей, которые, возможно, не видели отца, но жили с ним в одно и то же время.
– А можно найти тех, которые сделали эту запись?
– Ну, где же их искать-то? Их было много таких… Да и что скажут нового? Ничего…
* * *
В марте он узнал, что в профкоме завода есть туристические путёвки в Польшу. Александр загорелся съездить.
«Пускай у меня нет никаких достоверных сведений об отце, но я знаю, что поляки регистрируют родившихся в костёлах. Варшава сильно разрушена во время войны, но бывает же чудо! Один шанс из тысячи, а в данном случае, один костёл из тысячи, может, уцелел. В нём-то вдруг и окажется запись об отце! Надо постараться объездить все сохранившиеся старинные костёлы и проверить документы за 1918–1919 годы. Вот и вся стратегия поиска», – так он думал, сознавая, что его намерения наивны. Но другого пути не видел.
Ковальский подал все необходимые бумаги в профком завода. Ему говорили, что всё в порядке. Но в самый последний момент, когда сделать было уже ничего невозможно, оказалось, что каким-то образом пропала часть его документов. Уклончиво пояснили: теперь уже не успеть, пустые хлопоты… Александр понял, что кто-то просто не хочет брать ответственность на себя, узнав, что у него за границей могут быть родственники. Ватную стену прошибить казалось невозможным…
– Не верю я, что Станислав мог что-нибудь сделать худого. Добрый был, да и молоденький совсем ещё… – успокаивала после этого Катерина сына. – Всё равно объявится, я верю всё больше и больше…







