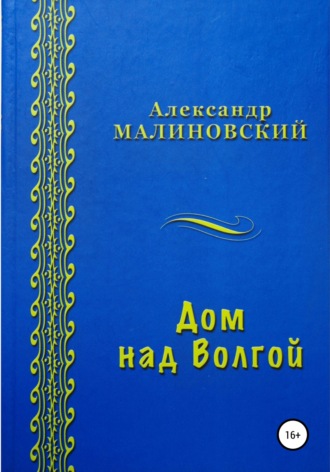
Александр Станиславович Малиновский
Дом над Волгой
В Ревунах
Головачёв этой осенью подрядился на пару с Гришей Ваньковым сторожить бахчи в Ревунах. Ревуны – это цепь озёр за посёлком Красная Самарка в сторону Малой Малышевки.
Говорят, Ревуны – бывшее русло отступившей от этих мест влево Самарки. Разбухающие весной от полой шальной воды, сливаясь воедино, они шумят и ревут, неся мутные потоки до тех пор, пока там, в речных верховьях, на чистом степном просторе, не иссякнет запас водной лавины.
И станут озёра на лето тихим убежищем для уток, выпи, лысух и всякой мелочи, летающей, порхающей и бегающей. И будут глядеть они из-под крутых берегов через заросли на небо своими тихими сузившимися зрачками.
…Больше всего нравилась Шурке дорога на бахчи в Ревунах. Чаще всего в гости к деду он добирался на велосипеде. Путешествие недлинное, но не из лёгких.
За Самаркой особенно тяжело, колеса вязнут в песке и часто приходилось останавливаться. Но зато какими подарками щедро оделял этот путь! После моста, когда Шурка ехал из Утёвки, едва взобравшись на крутой берег Самарки и ещё как следует не успев насладиться простором, избытком синевы неба и воды, нырял он в глубокий овраг. Дорога пересекала его строго поперёк, обрамлённая слева старым лесом, а справа – талами, скрывающими ответвление на лесной кордон в Моховое.
На одном дыхании одолеть Шурке овраг не удавалось. Каждый раз пересекал его пешком. После прохладного оврага вновь подарок – большущий песчаный плешивый курган. Здесь, на подъезде к нему, Шуркина душа каждый раз вздрагивала. Он начинал невольно озираться, как бы пытаясь найти опору, за которую, зацепившись, удержался бы и не упал в пропасть, так или иначе связанную у Александра в сознании со словом «вечность». Эта опора сама собой появлялась лишь только тогда, когда он вплотную подъезжал к кургану и переставал его видеть издали. Вблизи курган закрывали деревья, дедов шалаш на бахче, предметы быта, омёт, заботы разные… Только здесь уходило ощущение, что завис он на каком-то ненадёжном канате над бездной и она его готова проглотить…
…Совсем другое дело – дорога назад с бахчей в Утёвку. Шурка любил, миновав овраг, выбраться на ровное место, где намеренно брал резко влево к Баринову дому. Возникало удивительное зрелище: внизу, недалеко от Покровки, правее Утёвки, уютно лежала, как дымчатая кошка, река Самарка, поросшая по берегам чаще всего осинником и талами. Подсвеченные золотистым песком, воды её излучали радостный свет.
Село Покровка – прямо внизу. С высоты птичьего полёта можно смотреть на красивую, облитую лучами закатного солнца церковь. Утёвка – там, за Самаркой, за полоской леса, за редкими прямыми столбами дыма рыбацких костров. До неё километров пять, но церковь её хорошо видна. В отличие от Покровской, купол её – светлый, кряжистый – излучал такую светоносную волну, что захватывало дух и верилось в добрую сказку.
Когда Шурка стоял здесь, наверху, и видел манящую даль, коршуна, реющего в свободном полёте над Самаркой, ему иногда казалось, что стоит только неосторожно шевельнуть руками, и он тоже воспарит над этим простором. Что чудо заложено где-то здесь. Оно во всем, что его окружает, и есть только совсем незаметная грань, которая вот-вот нарушится, и тогда все, признав это чудо, начнут ликовать, как ликовало Шуркино сердце…
Было ещё одно диво в этих Шуркиных местах: не поддававшийся самым лютым холодам незамерзающий родник, выходивший из-под кручи вниз к Самарке.
В Утёвке и около неё мало берёз, считанные единицы. Здесь, начиная с Баринова дома, стояли вначале колки берёз, а затем они переходили в сплошной березовый лес! К этому Шурка привыкнуть не мог.
…Шурка на бахче второй день один – взрослые уехали. Дядя Гриша – на какую-то комиссию, дед – за продуктами. Он почему-то задержался.
Шурка решил сварить суп из добытой накануне кряквы. Сев на пенёк и поставив у ног тазик, начал ощипывать задеревеневшую тушку.
Залаял Цыган. Шурка обернулся: со стороны оврага из зарослей выходили двое с ружьями. У одного, смуглого – ружьё в руках. Шурка метнул взгляд на шалаш – там лежала его одностволка. «Не успеть, – мелькнула мысль, – рядом уже… Что же ты, Цыган, прозевал, подвёл?» Незваные гости подошли к Шурке и он враз успокоился. По всему видно, что это серьёзные охотники. У обоих были рюкзаки, каждый опоясан набитым богато патронташем.
– Что, один? – спросил чернявый и огляделся вокруг.
– Один, – ответил Шурка и насторожился вопросу.
– Тогда примешь, хозяин, гостей? – вновь сказал чернявый.
– С ночевой?
– Нет, парень, перекусить да чайку попить, – ответил уже тот, что постарше и посветлее.
И хотя Шурка больше не успел ничего сказать, чернявый по-хозяйски притулил ружьё к двери шалаша и, сняв рюкзак, повалился на землю:
– Весь день прошлялись и ни фига, это надо же, а пацан кряквой забавляется. Андрей?
Шурку кольнуло, каким тоном было сказано о нём, и он буркнул:
– Сейчас ветер дверь тронет, и ваше ружьё будет на земле, в пыли.
Тот, которого назвали Андреем, вдруг весело рассмеялся:
– Алик, получил?
– Да… – протянул Алик, – уважай мастера.
Он встал и повесил ружьё вверх стволами на сучок дверной дубовой сохи.
Потом они рылись в рюкзаках и переговаривались.
– И всё-таки, чтобы закончить нашу тему… Андрей, она талантливая актриса, но нельзя же так… – он помолчал, очевидно, подбирая нужное слово. – Нельзя же делать такие, понимаешь, чики-брики, хоть ты и нравишься многим, включая и главного режиссера.
– Да-да, понимаешь, в этом есть что-то возрастное, переходное… Пройдёт. Но главная роль всё равно как будто только для неё написана. Да? А ты почувствовал, какая она партнёрша на сцене?
Шурку прошиб пот. Перед ним были артисты и не какие-нибудь, а настоящие, из серьёзного театра. Шурка сразу понял это по манерам, по тому, о чём они говорили и как. Видеть живых артистов так близко, с ружьями, на бахчах! Разговаривать с ними! Это было, как сон. Он стушевался, не зная, как себя вести.
– Можно на столике разложить, зачем на земле, – сказал он нерешительно.
– Ах, да, конечно, спасибо.
Андрей положил на стол завёрнутый в марлю кружок чёрного городского хлеба.
«Ну, охотники-то из них не ахти какие, должно быть», – немного приходя в себя, подумал Шурка.
– А мы вот без пера, – живо сказал Андрей, – может, ещё на вечерней зорьке душу отведём.
– Как же – на вечерней, если вы ночевать не собираетесь?
– Собираемся. Тебя как звать? – откликнулся Алик.
– Александром, – ответил деревянным голосом Шурка.
– Ну, вот, Александр, у нас на кордоне у Репкова машина, а сами мы из Куйбышева. На кордоне и ночуем. Ты нас не бойся.
– С чего вы взяли, что я боюсь? Я вот думаю: почему вы до сих пор арбуза не просите, – осмелев, сказанул Шурка.
Алик так громко захохотал, разинув широкий рот и сверкая белыми, безукоризненно ровными зубами, что Шурке показалось: это не очень нормально. Будто он так сделал специально, чтобы ослепить Шурку белизной своих зубов или прорепетировал смех на всякий случай.
– Если угостишь, покажу и научу, как есть арбуз. Пойдёт?
«Вот нахал, научит есть арбуз… Тоже учитель!» – подумал Шурка. Ноги сами его подняли и понесли на арбузные ряды.
А в спину летел гортанный голос Алика:
– Александр, для всех надо два арбуза!
Шурка вернулся к столу с парой «победителей». Гости уже разложили свои запасы на столе. Непривычно крепко пахло копчёной колбасой; о такой Шурка только слышал, но никогда не пробовал. Он вообще не мог вспомнить, когда ел обычную колбасу в последний раз.
Андрей, взглянув на Шурку, отрезал солидный кусок колбасы и положил перед ним:
– Мы отведаем твоих арбузов, а ты – нашу еду.
Шурка смотрел на его руки и думал: «Как у деревенского мужика, только очень чистые. Интересно, откуда родом, может, родители, как у меня, – деревенские?»
– Я суп хотел варить, – опомнился Шурка.
– Да, ладно, не надо – это долго, – сказал Алик, – мы хотим на вечерней зорьке посидеть.
Колбаса лежала рядом, Шурка смущался, начиная сомневаться: а вдруг она почищенная уже? Не видно кожурки-то? Начнёшь чистить, они засмеются. Выждал, когда Андрей занялся одним из кусков, и только тогда потянулся за своим.
– И часто ты крякву бьёшь? – спросил Алик.
– Каждый раз, – сказал Шурка.
Гости многозначительно переглянулись.
– А как ты охотишься? – поинтересовался Алик.
– Просто, – успокоившись, отвечал Шурка, – в одежде и обуви, чтобы не порезаться, захожу в озеро и иду из конца в конец. Они днём в камышах прячутся. На взлёте, когда крылья вразмах, а скорости нет, – только и бить. Так надёжнее, не спутаешь с лысухой – заряд сбережёшь. Обычно беру с собой один, ну, два от силы патрона, чтобы не жунять без толку заряды. Тут, в Ревунах, уток много, но надо их спугнуть из зарослей.
– Молодец, – сказал Алик, – ты нам свою науку преподал, а мы тебе – свою за это.
«Вот бы нечаянно заговорили про театр», – со слабой надеждой подумал Шурка. Алик взял нож и разрезал арбуз пополам. Положил одну половину перед Шуркой, ножом почикал несколько раз ярко-красную мякоть.
– Деревянная ложка есть? Бери и ложкой с хлебом ешь, как из чашки.
Шурка попробовал. Было вкусно, удобно и необычно.
Они доели свои порции быстрее, чем Шурка – свою. И случилось то, чего он так не хотел: гости стали быстро собираться на дальний конец Ревунов.
– А чай? – растерянно спросил Александр.
– Хозяин, ну какой чай после арбузов? – Алик уже стоял на тропе. – Спасибо за хлеб-соль. Привет от солнечного Азербайджана.
– На, возьми, тебе надо, – сказал Андрей и положил на похолодевшую ладонь Шурки три новеньких бумажных патрона. И артисты скрылись в зарослях боярышника.
Чивер и голуби
Мать Шурки через день готовила поросёнку болтушку: смесь отрубей, остатков еды и трава заливается в баке горячей водой, потом хорошо размешивается скалкой.
– Шурка, нарви тазик жирнухи, я сделаю Борьке болтушку.
Шурка покорно взял в сельнице видавший виды тазик и пошёл мимо поросёнка Борьки, умиротворённо хрюкающего в пыли за сенями.
В проулке, за гатью, поставив тазик в самую гущу лебеды, Шурка рвал отяжелевшие макушки запылённой, со свинцовым оттенком травы и целыми пригоршнями бросал в тазик. Неожиданно, как из-под земли, вырос перед ним Мишка Лашманкин.
– Следишь за мной? – первое, что пришло в голову, сказал Шурка.
– Дело есть, – ответил Мишка, – нужна твоя помощь.
Мишка сел около тазика и с не свойственной ему растерянностью в лице, пошарив в карманах, вынул пачку «Севера». Щёлкнув пальцем по ней, протянул Шурке выскочившую наполовину папиросу.
– Я не курю.
– Ну, ладно, как хочешь.
– Говори, что надо.
Ковальский все ещё осторожничал и поглядывал поверх травы: нет ли где спрятавшихся Мишкиных друзей, готовых врасплох напасть. Одно дело, что тот помог ему, когда была беда с ногами, другое – сейчас.
– Дай ружьё на один только вечер. У тебя есть, я знаю.
– Зачем?
– Вернулся Илья Бедуар, ну, отсидел два года. Знаешь такого?
– Ещё бы! Только он – Будуар, а не Бедуар.
– Какая мне разница, – сплюнул смачно Мишка. – Он подсылает ко мне Чивера.
– А кто такой Чивер?
– Есть такой. Генка Горбунов, в том приходе шурует со своей гоп-компанией, они на побегушках у Бедуара. Я должен был три дня назад отдать им Гривуна, которого купил в Покровке, – они же голубятники заядлые. Не отдал, а спрятал. Теперь сегодня придут домой вечером – всех заберут.
– А родители?
– Они в Бариновке, на свадьбу поехали.
– Ружьё не дам, – твёрдо сказал Шурка, – нельзя на людей с ружьём.
– Они – грабители, а ты – «нельзя». Ты просто боишься, да? Выручи! Я только пугну, а за это должок будет за мной. Этих гавриков нельзя пускать в наш конец, всех потом подомнут, понял? Стоит один раз струсить, и потом… Я ведь тебе помог тогда, на задах.
Шурка задумался.
– Когда придут?
– Наверняка перед танцами в клубе, часов в восемь.
– Хорошо, я сам приду с ружьём.
– Не обманешь?
– Слово даю.
Весь его опыт общения с охотниками, взрослыми, которые, не сговариваясь, доверяли ему иметь своё ружьё, говорил, что нельзя делать то, о чём просил Мишка. И он нашёл, как показалось, выход.
Придя домой, взял два заряженных патрона. Удалив бумажные пыжи и вытряхнув дробь, пошёл на кухню. Насыпал на ладонь из стеклянной поллитровой банки соли, внимательно осмотрел серый бугорок на свету и остался недоволен: соль мелкая, не верилось, что может заменить дробь в патроне. Высыпая соль обратно в банку, споткнулся взглядом о мешочек с пшеном. Это было то, что нужно. «Конечно, стрелять не буду, – успокаивал себя Шурка, – если уж на самую крайность, то в воздух».
…Он подошёл к дому Лашманкиных в половине восьмого.
– Вот здорово, – ликовал Мишка, – я всегда тебя считал мировым парнем!
– Я стрелять в людей не буду, – возбуждённо сказал Александр.
– Да и не надо, пальнём поверх голов – и то хорошо.
…Трое ребят появились с дальнего порядка улицы. Шли уверенно, не прячась.
– Они, – возбуждённо сказал Мишка, – я прятаться не буду, нельзя, а ты встань за плетень и пригнись.
Шурка зашёл за плетень, отделявший двор от огорода, потоптался и присел за кустом сирени.
Во двор гости вошли с форсом. Чивер, его Шурка сразу определил по нагловатой ухмылке и по тому, как заискивали перед ним остальные, с ходу поддел башмаком консервную банку у входа и она, сделав полукруг, опустилась едва ли не на голову Шурки.
– Конец тебе, Мишка, – сказал тот, что был ближе к сирени, – сейчас козлиную смерть тебе будем делать. Не принес Гривуна, пеняй на себя.
Шурка видел, как побледнел его приятель, но остался стоять на месте. Страшная это штука – козлиная смерть. Её делали обычно так: двое держали провинившегося, а третий указательными пальцами с двух сторон начинал, как шилом, давить за ушами, прямо за мочкой, в углублении. Чем сильнее жмут, тем нестерпимее боль.
– Неси Гривуна – и делу конец, – по-хозяйски сказал Чивер. – Некогда нам рассусоливать, колготу разводить. Он это не любит.
Чивер сказал «он», и все поняли, о ком это.
– Гривуна нет, – твёрдо сказал Мишка.
– Где, говори! – почти по-военному, властно сказал Чивер и в один ловкий прыжок оказался вплотную с Мишкой, мгновенно заломив ему правую руку за спину.
– Ребя, вали его саманную голубятню, чего цацкаться, хватит ему люсить!
Шурка поднялся из-за сирени, положил одностволку на плетень и скомандовал:
– Отпусти Мишку!
– Ещё чего? А хо-хо не хе-хе? Откуда ты такой?
– Стрелять буду, – возбуждённо выкрикнул Шурка.
– Кишка тонка стрелять, – сказал Чивер и выставил впереди себя Мишку.
– По ногам жахну, – подтвердил Шурка и, взведя курок, направил ружьё на обещавшего козлиную смерть. Глаза их встретились.
– Чивер, он пальнёт – это точно! – взвизгнул тот, затравленно оглядываясь на калитку.
– Ладно, кина не будет, – оттолкнув от себя Мишку, сказал Чивер, – но не попадайтесь теперь на глаза!
Когда они скрылись за калиткой, подошедший к плетню Мишка сказал, кивнув в сторону Чивера:
– Отошла коту масленица, ёкорный бабай!
– А что это такое?
– Что? – не понял тот.
– Ну, ёкорный бабай.
– А я откуда знаю? Так Бедуар говорит, – ответил Мишка и оба расхохотались.
Когда смех прошёл, Шурка спросил:
– А что это за голубь – Гривун?
– Ты не знаешь? – удивился Мишка.
– Нет.
– Гривун – это чисто белый голубь. Такую породу вывел граф Орлов. Очень красивый, на загривке треугольник коричневого либо красного цвета. У моего – коричневый.
– Ты это всё не придумал? – засомневался Шурка.
– Да ты что? Обижаешь, я тебе его покажу, только чуть позже. Ладно?
– Ладно, – согласился Шурка.
…Они понимали, что на этом дело не кончится. Быть им битыми и жестоко. Но всё обошлось как-то по-странному просто.
Через неделю, собравшись на рыбалку, ребята отправились на Приказное озеро за червями. На Приказное можно идти мимо школы либо вдоль магазинов, где слева от продмага стоит пивнушка. Вот этой дорогой они и двинули. Когда до пивного ларька оставалось метров пять, от него отделились три фигуры.
– Что делать, Коваль? – заволновался Мишка.
– Поздно, иди спокойно.
– Стоп, команда! – сказал неожиданно звонким голосом Будуар.
Они продолжали путь. Шурка бросил взгляд на ларёк. Стоявшие у него парни заинтересованно смотрели на происходящее.
Остановившись, Шурка краем глаза заметил, как Мишка отстегнул с пояса широкий ремень с тяжёлой бляхой. «Ни к чему это, – успел подумать он, – даже смешно».
Чивер выскочил вперёд, но его остановил Будуар.
– Погодь, – отстранив его рукой, сказал он. – Кто был с ружьём?
– Ну, я, – сказал Шурка и почувствовал, как задрожали руки.
– Стрельнул бы тогда?
– Не знаю, – овладев собой, ответил Шурка. – Как бы дело пошло, так и сделал бы.
– Ишь ты какой, не ожидал, – сказал Будуар, покосившись на толпу у пивнушки, куда подошёл бойкий Петька Стрепеток в окружении трёх рослых парней из Золотого конца. Со Стрепетком Шурка в прошлом году был на сенокосе в одной артели. Тот зорко глянул на Шурку, потом на Будуара и вмиг всё понял.
– Коваль, привет, пиво пьём?
– Нет, – неуверенно ответил Шурка.
– Правильно делаешь, а мы вот жахнем по парочке кружек. А ты, Будуар? Пошалберничаем? Стервецы, – обратился он к своим приятелям, – занимаем очередь!
И пошёл к самому её началу, «стервецы» последовали за ним. – Будуар, пиво у Пупчихи киснет, не тяни.
«Вот где талант пропадает, – подумалось Шурке, – его бы к нам в драмкружок к Валентине Яковлевне. Как он ласково пугает этих дуроломов!»
– Чивер! – властно, по-хозяйски, произнёс вожачок Будуар.
– Я, – откликнулся на всё готовый его подручный.
Будуар выдержал глубокомысленную паузу и изрёк:
– Ты этих ребят не трожь и своим скажи.
Он ещё раз осмотрел с ног до головы подростков и сказал с особым значением, чтобы слышали у пивнушки:
– Это – наша смена!
И отошёл, довольный собой. За ним игриво зашагал Чивер, припевая: «Он вошёл в ресторанчик, чекулдыкнул стаканчик и велел всех ребят напоить».
– Ничего себе оценили нас, – хихикнул неуверенно Мишка, когда они уже копали червей. – Кто мы теперь с тобой?
– Будуарчики! – ответил Шурка, не задумываясь.
Им почему-то вдруг стало весело. Мишка притворно упал на зелёную кочку и дурашливо завопил:
– Ой, держите меня, а то упаду. О кочкарник ушибусь!
Он умел шумно радоваться. Шурке это нравилось.
В клубе
С тех пор, как Шуркина мать устроилась уборщицей в клуб, а вернее, в РДК – районный Дом культуры, забот прибавилось. Помещение большое и хлопот с ним немало.
На Шуркину долю выпало помогать матери: поздно вечером, после сеансов, подметать полы в большом зале, перед тем, как она их будет мыть. В слякотную погоду грязи на полу под сиденьями невпроворот и её трудно выметать, так как все ряды кресел крепко прибиты.
Ещё досаднее Шурке выметать шелуху от семечек, которой иногда набирается немало. Особенно, если два сеанса один за другим. Шурка не понимал, как можно во время кино грызть семечки? И не от того, что ему приходилось убирать шелуху или он считал это некультурным. Просто, когда он сидел в зале, то ни о чём не думал, кроме действия на экране. Для него неинтересного кино не существовало. Кино для Шурки – чудо, к которому он привыкнуть не мог.
Вчера вечером демонстрировали двухсерийный фильм. И теперь с утра у Шурки работы достаточно. В фойе, как обычно, было несколько человек: кто играл на баяне, кто листал подшивки журнала «Сельская жизнь», кто не знал, куда себя деть. Шурка помнил, что назначена репетиция духового оркестра, поэтому решил быстренько выполнить свои обязанности и послушать музыку. Он взял ведро с веником и вошёл в сумрачный зал.
Зрительный зал и сцена волновали его всегда. Здесь чувствовалось присутствие тайны. На полуосвещённой сцене стояло пианино. Живое, элегантное, божественное существо. Оно манило и пугало Шурку. В отличие от своих сверстников, он не мог запросто подойти к нему и пытаться извлекать звуки. Его охватывал трепет перед этим существом, представлявшим собой часть того таинственного и завораживающего мира, который зовётся музыкой.
Ему, как никому, представлялась возможность потрогать клавиши, ведь он иногда приходил совсем один, открывал клуб и подметал пол. Но Александр этого не делал. Это не было робостью. Не робел же он играть на сцене в постановках перед целым залом, вмещавшим триста человек. Его публика выделяла. Он не терялся на сцене, что даже для него самого было удивительным. Заряжало присутствие народа, и что-то подталкивало делать так, как казалось необходимым. Когда он забывал текст (это было редко), с ходу вставлял свои слова и так же ловко помогал выпутываться партнёру, которого внезапная фраза выбивала из строя. Ковальский видел всю пьесу, всю её продумывал. Герой ему был понятен, поэтому Шурка часто догадывался, что тот мог бы ещё сказать, но не сказал.
Однажды после такой игры Валентина Яковлевна подошла к нему, прижала к груди, отчего Шурка чуть не задохнулся, и, театрально воздев руки вверх, сверкая своими красивыми цыганскими глазами, громыхнула:
– Посмотрите на него, это не просто Шурка Ковальский – это будущий великий артист!
И поцеловала смачно в губы.
Всем известно, их худрук полумер не знала. У неё всё либо гениально, либо: «не то, не то, не то, дьяволы, черти такие». Но всё же Шурка и сам чувствовал, что в нём на сцене горит какой-то непонятный ему огонь. Он в это время соприкасался с чем-то большим и магическим. То ли это правда, которую надо донести до сидящих в зале? То ли истина, без которой все в округе, если её не поймут, окажутся обездоленными? Или это кусок чьей-то жизни, о которой обязательно следует поведать другим людям, иначе человек, в которого он перевоплощается, будет обделён – его не услышат, о нём не узнают. Зачем же тогда он жил?
Так часто думал Шурка. Ему было неясно, почему он становился на сцене таким отчаянным, не похожим на себя в обычной жизни. И кто же он и какой на самом деле? И как другие люди сами к себе относятся?
То, что совсем недавно стало случаться по ночам и чему он много позже, уже студентом, узнал научное название: «поллюции» – обескураживало. Он не знал, как к этому относиться. Урод он или так у всех? Было как бы два Шурки: один неосознанно стремился к чистому и красивому, и другой – пугающийся и не знающий, что с ним творится.
Похожее с ним бывало и раньше. Вспомнив об этом, он теперь только улыбался: в первом классе Шурка испытал потрясение, увидев свою первую учительницу, красивую и справедливую Нину Николаевну, выходившей из обычного школьного туалета. Это его тогда убило. И он долго не мог этого принять.
…Шелухи от семечек в этот раз оказалось много. Шурка заполнил четверть ведра, а всего-то прошёлся по половине зала. Решив передохнуть, сел в кресло и грустно повёл глазами. Зал был большой. По бокам сцены висели огромные из красного материала плакаты с ленинскими изречениями. Слева было написано: «Самым важнейшим из всех искусств для нас является кино». Справа: «Искусство принадлежит народу – оно уходит своими глубочайшими корнями в самую толщу широких народных масс…». Шурка уже хотел встать, как вдруг на сцену легко выпорхнула Верочка Рогожинская. По-домашнему, запросто села к пианино. И не успел Шурка опомниться, как зазвучала мелодия, звуки которой сначала заполнили сцену, затем перескочили через оркестровую яму и полились на него одного, сидевшего в полуосвещённом зале. Конечно, Верочка не знала, что кто-то сидит там. Тем более не ожидала увидеть здесь его. А ему этого как раз было не надо.
Он забыл обо всем. Видел и слышал только её.
Лёгкие белые руки Верочки, вся она, освещенная ярким светом, исторгала такие прекрасные и нежные звуки, которых он никогда не слышал. Он забыл обо всем. И невольно задел стоявшее около ног ведро с шелухой. Оно чуть звякнуло. Это привело Шурку в ужас. Но на сцене всё было по-прежнему. И вдруг на мгновение музыка прекратилась, Верочка откинулась на спинку стула, опустила руки вниз и так забылась на некоторое время. Она была красива, прекрасна! Это Шурка понял. Такого лица, таких рук, такой музыки Шурка никогда не видел и не слышал. Такого в его селе не было. Это оттуда, из той, далёкой жизни, которую он пока не знал и которая была недосягаемой и чужой.
Верочка вскинула руки, легко и плавно опустила их на клавиши. Шурка не сразу понял, что случилось. В следующую секунду он оказался во власти чарующей, завораживающе-светлой, но грустной до слёз мелодии. Тревожно-торжественные звуки будоражили. Верочка играла полонез Огинского. Как и тогда, во дворе у Кочетковых, Шурка вновь почувствовал неизъяснимую тоску, недостижимость мечты, неизбежность утраты. Музыка лилась и лилась. Пустой зал вбирал её и обрушивал на одного-единственного слушателя – Шурку…
Музыка поглотила его. Он видел, как в тумане, красивую девочку на сцене, вернее – силуэт её, тонул в звуках необъяснимо прекрасной мелодии, и всё это было недосягаемо и сказочно, и всё проходило мимо – мимо его жизни. Он это почувствовал. И заплакал. Слёзы сначала не давали отчётливо видеть, потом стало трудно дышать. Он не понимал, почему плачет. Да ему было и не до того. Вновь задел ведро, которое, звякнув дужкой, опрокинулось и покатилось вокруг Шуркиных ног, просыпав содержимое. Шурка, спохватившись, поймал его, но было уже поздно.
Верочка перестала играть, встала и подошла к оркестровой яме. Близоруко оглядела затемнённый зал, их взгляды встретились.
– Александр, ты?
– Я, – сконфуженно ответил Шурка.
– А что ты здесь делаешь один в зале? У нас репетиция вечером.
Шурка молчал. «Чудовищно глупо говорить ей, умеющей так играть, что я подметаю здесь пол», – с горечью подумал он. Только бы Рогожинская не спустилась со сцены, иначе всё увидит!
Но Верочка осталась на месте. Взмахнула своей лёгкой ручкой и попрощалась:
– Ну, пока! До репетиции!
И засмеялась. В её смехе Шурке не послышалось ни превосходства над ним, ни насмешки.







