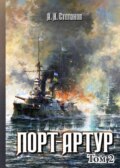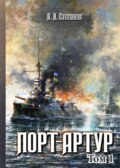Александр Николаевич Степанов
Семья Звонаревых. Том 1
– Друзья мои хорошие, – обняв за плечи Звонарёва, проговорил Стах. – В кои годы мы собрались вместе, так давайте не будем уж ссориться. Давайте лучше выпьем и вспомним старое, пережитое, а слово для тоста – Боре.
– С моим удовольствием, – широко улыбаясь, встал Борейко. Он налил всем бокалы светлого янтарного вина, помолчал немного и сказал:
– Дорогие друзья и боевые товарищи! Три года тому назад в эти ноябрьские дни мы в Порт-Артуре отбивали бешеные атаки японцев на Высокую гору. Серёжа уже лежал в госпитале, Варя неотлучно сидела около него. Всех нас ежеминутно подстерегала смерть. Судьбе было угодно, чтобы мы выпили до дна горькую чашу предательской капитуляции и позора японского плена. Всё это мы перенесли и пережили и сегодня снова собрались вместе. Я предлагаю выпить бокал, во-первых, в память павших артурских героев, да покроет вечная слава их прах, во-вторых – мы выпьем за нас самих, а в-третьих… – тут Борейко обвёл всех блестящим взглядом, – за наше будущее возвращение в освобождённый от японцев Порт-Артур. Ура!
Все восторженно подхватили этот тост.
– Ты, Боря, правильно высказал затаённые желания каждого из нас, – сказал Енджеевский, целуя Борейко. – Артур, обильно политый кровью русской, стал для нас родным и близким уголком. Освободить от японцев его – наша святая обязанность.
– Едва ли мы только доживём до этого! – вздохнул Звонарёв. – Пройдёт немало времени, пока Россия оправится от поражения…
– Но я уверена, что если не мы, то наши дети или внуки сумеют освободить Порт-Артур, – горячо возразила мужу Варя.
– Царское правительство не смеет и помышлять о новой войне с японцами. Ренненкампф[18] и Меллер-Зако-мельский[19] стреляют в русских рабочих, – с горечью проговорила Ольга Семёновна.
– Достреляются на свою голову! – глухо сказал Блохин.
После обеда мужчины перешли в кабинет Звонарёва, а женщины – в гостиную.
– Значит, ты уже на третьем курсе медицинского института? – спросила Ольга у Звонарёвой.
– Да, должна окончить весной десятого года.
– Учишься, конечно, за свой счёт?
– Нет, за счёт мужа, – пошутила Звонарёва. – На наш институт сильно косится министерство народного просвещения. Считают, что нам, женщинам, кроме акушерства и гинекологии, ничего не надо знать. А я решила стать хирургом. Сейчас много практикуюсь. И говорят, что у меня настоящая рука хирурга – твёрдая и быстрая.
– Живых ещё не оперировала? – с некоторой тревогой справилась Елена Фёдоровна.
– Пока нет, но ассистировала профессорам на операциях, и они остались довольны.
– Молодец, Варвара! Ты знаешь, чего хочешь в жизни, и твёрдо идёшь к цели! – похвалила подругу Ольга Семёновна.
– А ты? Разве у тебя нет цели в жизни?
Ольга Семёновна улыбнулась:
– Есть, конечно. Но об этом как-нибудь потом. А пока учусь. Мало знаю, ох как мало знаю! А надо знать много. Борис кое в чём помогает.
– Я понимаю тебя, Оленька, – сочувственно взглянула на неё Енджеевская. – Мы со Стахом стараемся не отставать от жизни, выписываем журналы, книги, ведём знакомство с передовой польской интеллигенцией. Поляки к нему относятся с большим уважением: считают его своим – потомком участника восстания тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. Но всё это не то. Живи мы в Варшаве, я, наверное, училась бы на историко-филологическом факультете университета, а Стах был бы там вольнослушателем.
– Интересно, куда девалась Надежда Акинфиева? – как бы между прочим справилась Варя, и её глаза вдруг стали холодными.
– Живёт в Одессе, работает сестрой милосердия, – сообщила Ольга Семёновна.
– Замужем?
Енджеевская засмеялась и обняла Варю.
– О, да ты до сих пор не избавилась от ревности! Поверь мне, что всё давно кончилось.
– Просто удивительно, что ты думаешь о таких глупостях, – недовольно взглянула Ольга Семёновна на Варю.
Та заставила себя улыбнуться.
– Хорошо, хорошо, не буду! Пойдёмте звать мужчин, а то они, наверное, уже накурились до одурения и скучают о нас.
Но мужчины и не думали скучать. Увлечённые политическими спорами, они усиленно дымили папиросами и, казалось, совершенно позабыли о своих дамах.
– Прошу в столовую, попить чайку, – пригласила их Варя.
За чаем общий разговор угас. Все вдруг почувствовали усталость от горячих споров. Гости стали собираться домой.
– Ты не очень пьян, Филя? – спросил Борейко на прощание у Блохина.
– Раз на ногах твёрдо стою, значит, терпимо, – улыбнулся тот.
– Смотри, Филипп Иванович, не забудь: завтра в десять часов утра я жду тебя на заводе, – напомнил Звонарёв.
В первом часу ночи гости покинули уютную квартиру Звонарёвых.
Глава 12
В газетах было объявлено о начале судебного процесса по делу Стесселя. Первое заседание назначалось на одиннадцать часов утра 27 ноября 1907 года, в офицерском собрании Армии и Флота, на углу Литейного проспекта и улицы Кирочной.
В повестке, которую получил и Сергей Владимирович Звонарёв, значилось: вызывают в качестве свидетеля.
«Форма одежды – парадная, для штатских лиц – фрак», – стояло на оборотной стороне повестки.
– У тебя, Серёжа, и в заводе не было фрака! Что же теперь делать? – растерянно спросила Варя у мужа.
– Пусть дядя Серёжа возьмёт фрак напрокат в костюмерном магазине, на Большом проспекте, – подсказал Вася, уже успевший ознакомиться с содержанием судебной повестки.
Но Сергей Владимирович решительно отклонил этот план.
– Пойду в пиджаке. Не пустят – перестану ходить.
С какой стати я буду наряжаться, ради кого?
– Но если все будут во фраках… – заикнулась было Варя.
– Это не бал, не званый обед, а суд над предателями родины, – прервал её Звонарёв. – И никто не заставит меня надеть для этого случая парадный костюм и лакированные ботинки.
– Если тебя не пустят на заседание суда, то и я не смогу там побывать, а мне так хочется посмотреть на Стессельшу, – призналась Варя.
– Попросишь отца, он и достанет тебе билет, – успокоил Звонарёв. – А я всё равно должен буду находиться в свидетельской комнате.
Варя посмотрела на календарь, затем на часы и всплеснула руками:
– Серёжа, да ведь сегодня приезжает папа! Скоро шесть часов. Надо торопиться на вокзал.
– Я не забыл об этом, – покачал головой Звонарёв. – Сейчас будем собираться.
Через полчаса Звонарёвы с Васей и Надей уже тряслись на извозчике, направляясь с Петербургской стороны на Знаменскую площадь. В тёмных улицах моросил дождь, и на намокшей мостовой расплывалось множество вечерних огней.
На вокзале Звонарёвы встретились с двумя другими сестрами Вари. Старшая – Руся – была замужем за гвардейским поручиком, сыном Стесселя, а вторая – Катя – ещё только собиралась выходить за своего поклонника – врача, который стажировался при Военно-медицинской академии.
Варя сухо поздоровалась со старшей сестрой и её мужем, потеплее приветствовала Катю и совсем по-дружески пожала руку доктору Краснушкину. Он в свою очередь назвал Варю «коллегой», чем окончательно расположил её к себе.
Звонарёв был одинаково вежлив и любезен со всеми. Сёстры занялись детьми, которых давно не видели, расспрашивали Варю о занятиях в институте, несчётно раз целовали и тискали Надюшу, пока она не расплакалась. Мужчины закурили, перебрасываясь отдельными словами, – разговор явно не клеился.
Тем временем на перроне появилась группа генералов и офицеров. Варя сразу узнала генералов-артурцев Тахателова и Мехмандарова. За ними следовало несколько артиллерийских офицеров. В их числе прихрамывал и Борейко.
– Здравствуйте! – подлетела к ним Варя. – Вы пришли встречать папу?
– Здравствуй, мой неверный невеста Варя! Обманул меня, за другой пошёл замуж! – сказал Тахателов и заключил Варю в свои медвежьи объятия. – Ты такой же стрекоза, как и в Артуре был?
– Ой, что вы! Я теперь солидная дама. Очень, очень рада видеть вас, – смеясь промолвила Варя и без стеснения поцеловала Тахателова в губы. Затем она дружески, как со старыми знакомыми, поздоровалась с Мехмандаровым, офицерами и подчёркнуто тепло приветствовала Борейко.
– Папе будет особенно приятно видеть вас. Вы, как известно, терпеть не можете всякое начальство, особенно генералов, и, тем не менее, решили встретить папу, – сказала она ему тихонько.
– Генерал генералу рознь. Василий же Фёдорович для меня, прежде всего, храбрый боевой командир, и мне будет очень приятно пожать его мужественную руку, – искренне проговорил штабс-капитан.
– Где твой грозный муж и повелитель? – обратился вдруг Тахателов к Варе.
– Стоит у вас за спиной и по-прежнему трясётся при виде генеральской формы, – ответила она.
– О нет! Если он рискнул жениться на тебе, значит – это очень храбрый человек. Здравствуй, дюша мой, Сергей Владимирович! Покажись – всё у тебя в целости? Голова, руки, ноги? Твой Варя ещё не изувечил тебя? – шутливо спросил генерал, пожимая руку инженера.
– Мы с женой живём душа в душу. Она – огонь, я – вода… Поэтому у нас всегда всё мирно и спокойно, – ответил Звонарёв.
– Надо думать, что Стессель получит по заслугам за все его артурские деяния, – громко проговорил Тахателов.
– Приложим к этому все наши силы, – отозвался Мехмандаров.
Молодой Стессель с женою, недружелюбно покосившись на генералов и офицеров, поспешили отойти подальше от них.
Вскоре подошёл сибирский экспресс. В окне вагона первого класса показалась фигура Белого. Заметив отца, Варя, держа на руках дочурку, бросилась в вагон, за нею спешили её сёстры.
– Господа офицеры, прошу построиться. Офицеры запаса – на левом фланге, – обратился Тахателов к встречающим.
Офицеры выстроились перед вагоном во фронт по старшинству чинов. Борейко и Звонарёв оказались на самом левом фланге. Заметив офицеров, Белый поспешил расстаться с дочерьми и внучкой и вышел на перрон.
– Господа генералы и офицеры! – скомандовал Тахателов.
Военные взяли под козырёк, Звонарёв приподнял над головой шляпу.
– Здравствуйте, господа! Очень рад видеть вас в добром здоровье, и позвольте поблагодарить вас за встречу, которой я весьма тронут, – взволнованно проговорил Белый.
Он по очереди перецеловался со всеми.
– Выходит, здесь ты один штатский, – весело сказал он, здороваясь со Звонарёвым. – Как у тебя дела, здоровье?
– Всё хорошо, Василий Фёдорович! Варя и дети здоровы. Жаловаться не на что! – ответил инженер.
Белый взял зятя под руку и, опираясь на него, медленно направился к выходу с вокзала. Офицеры двинулись за ним, на ходу расспрашивая его о различных делах. Варя с детьми, Катя и Руся с мужем замыкали шествие.
Белый выглядел очень усталым, и это сильно старило его. Он тяжело опирался на руку Звонарёва.
– Может быть, вы, Василий Фёдорович, не в гостиницу, а прямо к нам? – предложил Звонарёв.
– Спасибо, Серёжа, я уж в гостинице буду, – ответил Белый.
– Все вызванные на суд генералы размещаются в Европейской гостинице. Номер в три комнаты вам, Василий Фёдорович, уже приготовлен, – сообщил ему Тахателов. – Карета ждёт вас у вокзала.
Ещё раз поблагодарив офицеров за встречу, Белый, обращаясь к Борейко, задушевно проговорил:
– А я, признаться, не ожидал вас видеть в числе встречающих! Тем приятнее мне этот сюрприз. Надеюсь, что мы ещё не раз встретимся. Если чем-либо могу быть вам полезен, Борис Дмитриевич, всегда к вашим услугам. Я никогда не забуду о ваших подвигах в Артуре. К сожалению, вы до сих пор не отмечены боевыми орденами. Теперь я постараюсь эту оплошность исправить, – сказал Белый, пожимая руку штабс-капитану.
– Я, ваше превосходительство, не рождественская ёлка, чтобы меня украшать. Обойдусь и без орденов, – поклонился Борейко.
– Увы, неисправим! – улыбнулся Белый, покачав головой.
В карете с генералом поместились Звонарёвы и дети, остальные поехали на извозчиках.
– Неприятно, что с вами приехал и молодой Стессель, – недовольно поморщился Белый. – Он, наверно, станет просить за отца. Но я не могу поступать против совести и присяги! Как ни верти, Стессель целиком виновен в преждевременной сдаче Артура. Крепость могла быть взята штурмом, когда силы защитников иссякли бы, но сдаваться на капитуляцию русская крепость не должна! От этой ответственности Стесселю на суде не уйти!
– Какое же, по-вашему, ждёт его наказание? – поинтересовался Звонарёв.
– По нашим законам за преждевременную сдачу крепости полагается расстрел. Но, вероятно, Стесселя подведут под амнистию, и казнь заменят каторжными работами с последующей ссылкой в Сибирь на поселение, – ответил генерал.
– А не найдут ли повода для оправдания его? – высказал предположение Звонарёв.
– Этого не может быть! – протестующе воскликнул Белый. – Если Стесселя оправдают, я первый подам в отставку, да не я один, Тахателов, Ирман, Семёнов, Третьяков – все порядочные артурцы уйдут из армии. Виноват Стессель, и оправдывая его, суд переложит его вину на всех нас, артурцев! Я честно воевал и хочу сохранить незапятнанным свой военный мундир, который ношу уже свыше сорока лет.
В номере гостиницы Руся попыталась передать отцу личное письмо от Стесселя, но Белый категорически отказался его принять.
– Нет, дорогая, письма я не возьму. Ты же знаешь, сношения с подсудимым в ходе судебного процесса недопустимы! – сказал он. – Можешь от моего имени передать твоему свекру, что я буду давать показания строго руководствуясь долгом перед Родиной, своей присягой и честью военного мундира. Как родственник Анатолий Михайлович для меня на суде не существует.
– Но Анатолий Михайлович очень просит тебя, папа, хотя бы тайно повидаться с ним в один из ближайших дней. Он хотел посоветоваться с тобой, как себя лучше вести на суде, – настаивала Руся.
– Ни о каком свидании не может быть и речи. Особенно тайном, следовательно – подозрительном, недозволенном, жульническом. Об этом я и слышать не хочу! Распоряжался он в Артуре ни с кем и ни с чем не считаясь, пусть же теперь один и держит ответ за все свои дела, – решительно отклонил генерал просьбу дочери.
Руся расплакалась от огорчения.
– Пойдём отсюда, Руся! – с нарочитым трагизмом промолвил молодой Стессель. – Знаешь пословицу: старая хлеб-соль забывается. Отец нужен был Василию Фёдоровичу в Артуре, когда представлял его к чинам и орденам! Тогда и разговор был другой. А теперь чем же может быть полезен «государственный преступник»? Теперь с ним можно и не церемониться.
– Вы забываетесь, поручик! Потрудитесь выйти! – вспыхнул Белый.
– Слушаюсь, ваше превосходительство! – вытянулся молодой Стессель и, резко повернувшись, вышел из комнаты.
– Раз ты прогоняешь моего мужа, значит – ты прогоняешь и меня! Прощай, моей ноги больше не будет в твоем доме! – вскрикнула Руся.
Белый осуждающе взглянул на дочь.
– Твой муж позволил себе дерзость. Не будь дурой и отнесись к этому разумно. Тебя никто не прогоняет и не считает ответственной за слова мужа.
Руся, всё ещё плача, продолжала одеваться.
– Мне нужно идти домой, папа, – уже мягче проговорила она.
– Это другое дело! Если надо, то я тебя не задерживаю. Объясни свекру и свекрови моё мнение. Если они не окончательно сошли с ума от злобы и страха, то поймут меня. До свидания, доченька! – сказал Белый и ласково поцеловал Русю в лоб.
– Тяжело ей приходится меж двух огней, – вздохнула Катя, когда Руся скрылась за дверью.
– Сама виновата! Давно бы отреклась от Стесселя, раз он предатель и изменник! А муж, если хочет остаться с нею, пусть порывает с родителями или рвёт с ней и остаётся с ними, – запальчиво высказалась Варя.
– Значит, ты могла бы бросить и меня? – полушутливо спросил Звонарёв.
– Если ты окажешься предателем, изменником и вообще подлецом – брошу ни минуты не задумываясь! Возьму Надюшу и уеду к папе с мамой или к Кате, – отрезала Варя.
– А меня куда же? – насупился Вася.
– Оставлю с твоим ненаглядным дядей Серёжей, – бросила Варя.
– И чего ты, Варя, кипятишься? – недоуменно пожал плечами Белый.
– Это она так, для острастки! – объяснил Звонарёв, улыбаясь. – У неё это бывает.
Посидели, вспомнили прошлое, друзей и знакомых.
– Вот что, дорогие деточки, не надоел ли вам папаша? – иронически спросил генерал.
– Да, да, нам уже пора домой, скоро десять часов, – спохватилась Варя. – Ты извини, папа, что задержались.
Вот и Надюша совсем сонная. Васе и Серёже рано вставать, да и мне надо к девяти часам на лекцию.
На прощанье она попросила у отца достать два билета на одно из заседаний суда.
– Зачем два? – удивился Белый. – Серёжа и так пройдёт по судебной повестке.
– Я хочу, папочка, привести с собой подругу. Она очень интересуется артурским процессом, – пояснила Варя и представила себе, как изумился бы генерал, узнав, что эта «подруга» не кто иной, как бывший его штрафной солдат – Блохин.
Глава 13
С утра 27 ноября 1907 года в здании суда было необычайно многолюдно. Вестибюль, широкая лестница и площадки на ней заполнились офицерами, вызванными в свидетели по делу Стесселя, и простой публикой, сумевшей достать билеты в зал заседания этого первого в истории России Верховного военно-уголовного суда[20]. От входа по лестнице до самого зала заседания расположился почётный караул из представителей различных гвардейских полков в исторической парадной форме, напоминавшей о славных боевых делах этих полков за последние два столетия. Молодые гвардейские офицеры в киверах, касках, парадных меховых шапках проверяли билеты у посетителей.
Повсюду слышались оживлённые разговоры, радостные восклицания артурских друзей, снова встретившихся в этот знаменательный день. Герои, покрытые бессмертной славой, украшенные орденами, отмеченные ранами, взволнованные и возбуждённые, обменивались воспоминаниями, засыпали друг друга вопросами. Не думали и не предполагали они там, в далёком Артуре, отстаивая среди ужасов смерти и страданий русскую крепость на Дальнем Востоке, что эта героическая эпопея закончится хотя и запоздалым, но всё же судом над предателями-генералами, ещё недавно ходившими в ореоле героев.
В публике слышались имена храбрецов, известных по сообщениям из Артура, на них смотрели с почтением и восторгом. Тут же спорили о деяниях Стесселя и других подсудимых[21]. Одни горой стояли за них, другие убеждённо доказывали их виновность. Первых было немного, вторых – значительно больше.
Варя с мужем немного опоздали и не сразу нашли в толпе чету Борейко. Рядом с Борисом Дмитриевичем стоял хмурый Блохин, молчаливо наблюдая за окружающими.
– Судьба играет человеком, друг Филя! – иронически говорил ему Борейко. – То вознесёт на вершину славы и почёта, то низвергнет без следа в пучину бесславия и позора. Стессель в Артуре мечтал о лаврах героя, о памятнике на мраморном пьедестале, а попал на скамью подсудимых. Здорово, не правда ли?
– И поделом ему, – махнул рукой Блохин. – Только не верится мне, чтобы его осудили. Такие канальи всегда из воды сухими выходят.
– Придворная камарилья отыгрывается на Стесселе! – заметил Енджеевский, подходя. – С ним на скамье подсудимых должны быть Алексеев, великие князья и, пожалуй, Куропаткин. Но они, боясь народного гнева и спасая свои шкуры, головой выдали Стесселя на публичное растерзание.
– Дайте срок, Евстахий Казимирович! До всех доберёмся, всех за ушко да на солнышко вытащим, – мрачно проговорил Блохин.
Толпа вдруг зашевелилась.
– Идут, идут! – прокатилось волной по зданию суда.
Снизу по лестнице поднимались окружённые родственниками Стессель, Фок, Рейс и Смирнов. За ними следовали озабоченно-взволнованные защитники с папками в руках.
Впереди шагал Стессель, крупный, массивный, краснолицый. В чёрном штатском сюртуке, с Георгиевскими крестами в петлице и на шее, опираясь на большую палку с серебряным набалдашником, он злым, наглым взглядом окидывал глазеющую на него публику и зычным командирским голосом бросал короткие реплики своему окружению.
Несколько отступя за ним следовал худощавый, сдержанно-молчаливый Фок. Он с презрительной миной встречал взгляды любопытных. В полной парадной форме, при всех орденах и лентах, Фок, казалось, шёл не на суд в качестве обвиняемого, а на царский приём. Только злобно вспыхивающие серо-голубые старческие глаза выдавали его внутреннее волнение.
Третьим, грузно переступая по ступенькам лестницы, шагал Рейс – коренастый, краснолицый, в полном парадном мундире. Громко сопя от волнения и ни на кого не обращая внимания, он весь ушёл в свои думы.
Группу замыкал не по летам подвижный Смирнов, седой, с лихо закрученными вверх седыми усиками и ярко блестевшими от возбуждения глазами. По улыбке, не сходившей с его моложавого лица, нетрудно было догадаться, что генерал чувствовал себя совершенно невиновным и твердо верил в оправдательный приговор. В руках он держал толстую папку.
Защитник Смирнова, военный юрист, статный, моложавый морской офицер в чине капитана второго ранга, едва поспевал за ним.
– Смирнов так и жаждет стесселевской крови, – пробасил Борейко.
– В Артуре он был каким-то блаженным и, видимо, тут, на суде, тоже будет чудить, – едко бросил Блохиа.
Наконец двери зала заседаний открылись, и публика ринулась в большое двухсветное помещение с колоннами. Долго и шумно занимались места, указанные в билетах.
Подсудимые и защитники прошли вперёд, к удобным мягким диванам. Вера Алексеевна Стессель, в чёрном траурном платье, с застывшим лицом, заняла место в первом ряду вместе с сыном и невесткой. Когда Стессель отходил от жены к «дивану» подсудимых, генеральша демонстративно поцеловала мужа и затем несколько раз перекрестила его.
– Колдует над своим хозяином! Может, оно и помогает в царском суде, но от рабочего суда так просто не открестишься, – пробормотал Блохин, поглядывая на чету Стессель.
Три секретаря суда по спискам начали проверять наличие в зале вызванных свидетелей.
– Где же запропастился наш отец? – забеспокоилась Варя, когда секретарь назвал фамилию Белого.
– Здесь! – раздалось в глубине зала, и, раскланиваясь на ходу со знакомыми, Белый прошёл вперёд к своему месту.
Посередине эстрады возвышался большой, покрытый сукном стол. На нём стояли треугольное зерцало с петровскими уставами на гранях, три графина с водой, пепельницы.
Длинная перекличка всех ста пятидесяти четырёх свидетелей, вызванных на суд, закончилась только в одиннадцать часов утра. После этого раздался звонок, и вслед за ним прозвучала команда:
– Встать! Суд идёт!
Все поднялись. Справа, из судейской комнаты, вышли одиннадцать генералов, один старее другого. У некоторых от дряхлости беспомощно тряслись руки и головы. За исключением двух генерал-лейтенантов, все остальные были полные генералы, увешанные крестами и медалями, как церковные иконостасы[22].
– Цвет нашего генералитета! Всю рухлядь сюда собрали.
– Самому молодому – под восемьдесят. Герои времён Очакова и покорения Крыма.
– Они, поди, уже совсем из ума выжили!
– Такие сговорчивее. Вынесут приговор, какой прикажут! – тихо переговаривались друзья.
Председатель, седовласый старик с мелко трясущейся головой, разрешил публике садиться и вставил орла на зерцало[23].
Судебное заседание открылось. По списку привели к присяге подсудимых и свидетелей.
Белый предъявил себе отвод как родственнику Стесселя. Суд от показаний его не освободил, но к присяге решил не приводить.
Стессель обратился к суду с просьбой о вызове ещё двадцати свидетелей.
– Сколько же их у вас всего? – спросил председатель.
– С вновь вызываемыми – девяносто шесть человек, – доложил секретарь суда.
– А сколько свидетелей обвинения? – поинтересовался один из членов суда.
– Двадцать девять человек, – сообщил прокурор, сравнительно молодой генерал-лейтенант.
В публике пронёсся шум.
– Безобразие! Всё делают, чтобы оправдать Стесселя! – возмутился Борейко.
– Это же не судьи – фокусники, – шепнул Блохин. – Посудят, посудят и оправдают. Шутка ли – сто свидетелей! И волки будут сыты, и овцы целы!
В зале усиливался шум. Председатель суда нервно позвонил.
– Прошу соблюдать тишину и порядок!
Шум в публике постепенно стих, и председатель приказал секретарю суда, лысоватому судейскому полковнику, огласить обвинительное заключение. Откашлявшись, полковник скрипучим, неприятным голосом довольно громко начал читать:
– «По указу его императорского величества Верховный военно-уголовный суд предъявляет подсудимому бывшему генерал-лейтенанту Стесселю Анатолию Михайловичу, пятидесяти восьми лет от роду, генералам Фоку Александру Викторовичу, шестидесяти четырёх лет, генералу Рейсу Виктору Александровичу, сорока шести лет, генералу Смирнову Владимиру Николаевичу, пятидесяти двух лет от роду, следующие обвинения: бывшему генерал-адъютанту, генерал-лейтенанту в отставке Стесселю: первое – в преждевременной сдаче крепости Порт-Артур, не вызванной обстоятельствами обороны; второе – в неверных донесениях его величеству о положении дел в крепости, умышленно изображавших положение как совершенно безнадёжное; в-третьих – в допущении к распространению записок генерала Фока, подрывающих авторитет некоторых начальников и командиров; четвёртое – в самовольном оставлении крепости Порт-Артур, вопреки прямому приказу о выезде в Маньчжурскую армию; пятое – в самовольном отъезде в Россию, бросив на произвол судьбы подчинённый ему гарнизон, отправляющийся в плен в Японию… В-шестых… в-седьмых… в-десятых…» – монотонно читал председатель.
– Вы признаете себя виновным в предъявленных обвинениях? – обратился к Стесселю председатель суда.
Стессель быстро поднялся с кресла, на котором сидел, и громко ответил:
– Ни по одному из приведённых пунктов обвинения я себя виновным не признаю. Всё это пустые оговоры генерала Смирнова… Он, а не я, виновен в преждевременной сдаче крепости. – И Стессель грузно опустился на место.
Зато, как на пружинах, вскочил с места Смирнов и с дрожью в голосе выкрикнул:
– Это называется – с больной головы на здоровую! – И, потрясая толстой папкой, которую держал в руках, продолжал: – У меня тут собраны сотни доказательств виновности Стесселя. Его заявление – сплошная ложь. Я докажу это.
Председатель замахал рукой на разошедшегося генерала.
– Прошу вас успокоиться. В своё время вы доведёте до сведения суда все ваши обвинения.
В зале суда снова поднялся шум. Были слышны отдельные выкрики: «Смирнов прав! На виселицу Стесселя!» Председатель снова взялся за звонок.
– Прошу успокоиться, господа. Вы на заседании суда.
Постепенно шум смолк, чтение обвинительного заключения продолжалось. Секретарь бесстрастно продолжал:
– «Генералу Фоку предъявляется обвинение в написании и распространении записок, подрывающих авторитет некоторых начальников и командиров, ответственных за оборону крепости; второе – в не вызванном обстоятельствами боя отходе с Цзинджоуских позиций; третье – в преждевременном оставлении передовых позиций Порт-Артура на Перевалах и на Зелёных горах, что повело к ослаблению обороны крепости и быстрой её сдаче».
Фок тоже не признал себя виновным, но, в отличие от Стесселя, отвечал своим обычным скрипучим бесстрастным голосом, не вступая ни с кем в полемику.
Не признал себя виновным и Рейс в предъявленном ему обвинении в подписании позорной капитуляции.
– Я только выполнял распоряжения своего начальника, – оправдывался он.
Смирнов также отверг обвинение в бездействии власти и невоспрепятствовании преждевременной сдаче крепости.
– Я лишен был Стесселем какой бы то ни было власти и узнал о капитуляции лишь после её заключения. Стессель действовал сам, ни с кем не советуясь и даже вопреки мнению совета обороны крепости, – пояснил генерал. – Я ничего поделать не мог.
Председатель объявил перерыв в заседании суда, публика с шумом начала выходить из зала в фойе.
– Кто же виноват в сдаче крепости? – сердито бурчал Блохин. – Выходит, солдаты да матросы. А что они кровь проливали, живота своего не жалели, так это не в счёт.
– Подождём, послушаем, Филипп Иванович, до конца, тогда и вынесем своё мнение, – с улыбкой заметил Звонарёв.
– Да чего там ждать? Дело ясное – всех оправдают, – упрямо твердил Блохин.
– Тогда наш суд потеряет всякое уважение в глазах общественности, – возразила Варя.
– А сейчас он им пользуется? Всё заранее подтасовано, – твердил Блохин.
– Права, пожалуй, была Оля: всё это сильно смахивает на спектакль, – отозвался Звонарёв.
Ольга Семёновна подошла к Блохину, мягко взяла его под локоть.
– Вы здесь поспорьте, а мы пройдёмся, – сказала она, улыбнувшись Варе.
Они вышли в вестибюль, где по-прежнему было много народа. Все оживлённо разговаривали, спорили, был слышен смех, реплики в адрес подсудимых. Оля посмотрела на Блохина, на его расстроенное, злое лицо, пожала его руку и тихо спросила:
– Филипп Иванович, вы помните Пресню, Ивана Герасимовича?
Блохин, вздрогнув, остановился.
– Почему вы спрашиваете? Что-нибудь случилось?
– Нет. Просто я видела его здесь, на заседании. Он со своими друзьями. Мне страшно захотелось подойти, пожать его руку, спросить о Клаве. Но при наших было неудобно. Давайте поищем их.
Они медленно прошлись по вестибюлю, спустились по лестнице, вновь поднялись и на площадке, неподалеку от окна, увидели Ивана Герасимовича. Узнали они его сразу, хотя он сильно изменился. В элегантном чёрном фраке и белой, круто накрахмаленной рубашке, мягком, изящно повязанном галстуке, он мало походил на того Ивана Герасимовича, с которым у Оли и Блохина были связаны воспоминания о горячих незабываемых днях на Пресне, но непокорные, густые, хотя и совсем седые волосы, а главное – манера внимательно и цепко слушать собеседника, чуть наклоня голову, лёгкий прищур глаз – всё было прежним, дорогим.
Оля остановилась, перевела дух… «Значит, они живы, значит, они действуют», – подумала она.
– Как хорошо, что они живы и что они здесь, – услышала шёпот Блохина, поняла, что «они» относилось не только к Ивану Герасимовичу.
– Мне бы очень хотелось сказать «здравствуйте» старому знакомому, – осторожно подбирая слова, тихо сказала Оля, когда они подошли близко.
Иван Герасимович быстро, одним взглядом окинул Олю, Блохина, и вдруг глаза его потеплели, наполнились светом и лаской.
– Здравствуйте, дорогая моя, здравствуйте, – проговорил он, пожимая Оле руку. – Я бы с удовольствием вас расцеловал, да нельзя – общество… И вас узнаю, – обратился он к Блохину, – порт-артурский герой. Что, судить своё начальство пришёл? Нехорошо: начальство, говорят, надо уважать… Знакомьтесь, – легко повернувшись к своему собеседнику, сказал он. – Это мои московские друзья. А это мой петербургский друг – доктор Краснушкин.
Оля с интересом посмотрела на доктора. Вспомнила, что именно о нём говорила Варя. По-мужичьи скроен – невысок, крепок и силен. Широкие и тёплые ладони крепко пожали руку. Наклонил голову, чёрные как смоль прямые волосы упали на лоб, откинул их резким движением – открыл ясные, спокойные карие глаза.
– Хотите небось узнать о своей подружке, – не называя имени, спросил Иван Герасимович. – Жива и здорова, работает, но далеко отсюда… Сейчас в Швейцарии. А вы где? В Москве? В Батуме? Ого, куда забрались! Вот видите, гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся.