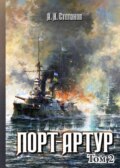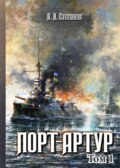Александр Николаевич Степанов
Семья Звонаревых. Том 1
Глава 7
Через полчаса приготовления были закончены. Около часовни стоял катафалк с белым глазетовым гробом, доверху нагруженным оружием и патронами, а также перевязочным материалом. «Священник» ходил вокруг катафалка и, напевая что-то себе под нос, усиленно кадил на «покойника». За катафалком, в чёрном платке, низко повязанном по самые глаза, шла, горько плача, женщина, охватив обеими руками гроб.
– Ну, трогай, сердешный, – прохрипел простуженным голосом «поп».
Мужик дёрнул лошадь за уздцы. Выйдя на Малую Грузинскую улицу, похоронная процессия направилась к Большой Пресне.
Блохин шёл медленно, степенно, держа в правой руке серебряный крест, а в левой кадило, из которого густо клубился благовонный дым ладана. Когда катафалк поравнялся с подворотней, где столпилось десятка полтора мужчин и женщин, прятавшихся от обстрела, Блохин вскинул голову вверх, осенил толпу крестным знамением и елейным голосом провозгласил:
– Мир вам, люди православные! Да осенит вас господь бог своею благодатью!..
Почти все сняли шапки и набожно закрестились. Ободрённый таким эффектом, Блохин начал вполголоса напевать те немногие церковные фразы, которые сохранились с детства в его памяти.
– Свят, свят господь бог всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!
К нему подбежала женщина и тревожно предупредила, что на Большой Пресне каратели по всем бьют из ружей, а то и из пушек. Но «батюшка» не растерялся и, вспомнив недавнее наставление Страховой, проговорил смиренно:
– Без воли божьей ни один волос не упадёт с головы человеческой. Только бог волен в жизни и смерти человека…
Эти слова убедили женщину, что перед ней готовый идти на любые муки священник, и, наклонившись, она чмокнула «святого» в руку. Блохин так смутился, что едва не обозвал её дурой.
– Целуй икону, а не мою многогрешную руку, – недовольно буркнул он и снова закадил ладаном: – Паки, паки миром господу помолимся…
На углу Малой Грузинской и Большой Пресни стоял отряд солдат, простреливая прилегающие кварталы улицы. Один из унтеров подбежал к Блохину предупредить «духовного пастыря», что по Пресне ехать нельзя.
– Наши-то, конечно, вас не тронут, а дружинники мигом пристрелят, – добавил он.
Блохин уже привычным жестом осенил крестом солдат, призвал мир на их головы и спокойно пошёл дальше, на Большую Пресню.
Слева, со стороны Зоологического сада, по направлению к Ваганьковскому кладбищу била артиллерия. Снаряды со зловещим визгом проносились над головами, рвалась шрапнель, осыпало улицу свинцовым дождём, осколки звенели, падая на мостовую и крыши домов. В воздухе мелодично посвистывали ружейные пули, с характерным треском ударяясь о стены и мостовую. Но катафалк по-прежнему неторопливо двигался по Пресне. Священник направо и налево благословлял людей, в страхе забившихся в подворотнях и за углами зданий. Ведущий под уздцы лошадь Федосеев, приседая при каждом близком выстреле, всячески торопил Блохина. Зато Страхова, взявшись рукой за катафалк, устало шла за гробом. Казалось, её решительно ничто не пугало.
По ту сторону Большой Пресни разгорался пожар. К небу поднимались огромные клубы чёрного дыма, застилая и улицу. Когда траурная процессия подошла к преграждавшей улицу баррикаде, Блохин высоко поднял вверх крест и благословил им дружинников, которые с удивлением, настороженно смотрели на него, ожидая какой-либо провокации, и не понимали, что им надо делать. Но тут подошла к баррикаде Клава и что-то сказала.
– Клава, ты? – услышала она голос Андрея.
– Я!
Дружинники бросились быстро разбирать баррикаду у одной из стен.
Наблюдавшие за катафалком солдаты сделали по баррикаде несколько выстрелов. Но Блохин издали осенил их крестом. Стрельба стихла, и катафалк благополучно миновал баррикаду.
Едва он скрылся от глаз солдат за баррикадой, как дружинники бросились к гробу и, подняв крышку, быстро разобрали оружие, патроны, медикаменты. Затем гроб вновь поставили на катафалк. Федосеев сел на облучок катафалка и поехал дальше по направлению к кладбищу. Блохин снял крест, скуфью, бросил кадило. Снять же узкую ризу не смог и, как был в ней, подхватил свободную винтовку, занял место среди дружинников, изредка отвечающих на выстрелы солдат.
– Ну, теперь держись, Ваше благородие, – весело поблескивая глазами, проговорил Андрей, заряжая винтовку.
– Как там дела, товарищ Страхова?
– Какие новости, Клава? – неслось с разных концов баррикады.
– Товарищи! Пресня стоит неприступной крепостью! Враг ввёл в действие тяжёлую артиллерию. В течение нескольких часов бил по Прохоровке, по заводу Мамонтовых, по фабрике Шмита, против нас стянули крупные соединения пехоты, казаков, но нигде, слышите, товарищи, нигде враг не смог ступить на Пресню. Рабочие Пресни героически сражаются за свою свободу! Да здравствуют герои-дружинники! Да здравствует Красная Пресня!
– Ура! – дружно ответили с баррикады.
Ударил залп, осколок снаряда срезал, как ножом, древко красного знамени. Наташа увидела, как знамя, качнувшись, стало медленно падать.
– Знамя, знамя! – крикнула она, бросившись к поникшему алому полотнищу. Вскинув знамя над головой, она высоко подняла его над баррикадой.
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врага, люд голодный… – звонко запела она, бесстрашно смотря в сторону карателей.
Раздайся клич мести народной…
– Наташка, сумасшедшая, что ты делаешь! – бросилась Клава к подруге. Но не успела. Тонкий свист пули оборвал песню. Покачнувшись, Наташа рухнула на руки Клавы.
Вперёд, вперёд, вперёд… —
прошептали её побледневшие губы. Дружинник рванул древко знамени и прочно водрузил его на прежнем месте, самом высоком на баррикаде. Порыв ветра выпрямил красное полотнище, и оно свободно заплескалось над рабочими.
Наташа открыла глаза, долго смотрела на плачущую Клаву, Андрея, на дружинников, потом перевела взгляд на небо, ясное и по-зимнему синее, на кроваво-красное знамя, развевающееся на ветру, тихо прошептала:
– Пусть всегда реет красное знамя над Пресней… Над Красной Пресней…
Вечером 16 декабря на Пресне стало известно решение Московского комитета и исполнительного комитета Московского Совета о прекращении вооружённой борьбы.
Ночью в Малой кухне собрался Пресненский Совет рабочих депутатов.
– «Новая схватка с проклятым врагом неизбежна, – читала Клава листовку Московского комитета, – близок решительный день. Опыт боевых дней многому нас научил, этот опыт послужит нам на пользу в ближайшем будущем.
Славные борцы за свободу и счастье рабочего класса, бессмертные защитники баррикад доказали и нам, и рабочим всей страны, что мы можем бороться не только с ружьями и нагайками, но и с пушками и с пулемётами. И теперь, как и в первые дни, гордо развевается красное знамя на наших баррикадах…
Мы не побеждены… Но держать без работы всех рабочих Москвы дольше невозможно. Голод вступил в свои права, и мы прекращаем стачку с понедельника. Становитесь на работу, товарищи, до следующей, последней битвы! Она неизбежна, она близка…
Ждите призыва! Запасайтесь оружием, товарищи! Ещё один могучий удар – и рухнет окончательно проклятый строй, всей стране ненавистный.
Вечная память погибшим героям-борцам, вечная слава живым!..»
Все долго молчали. Клава смотрела на худые, заросшие, постаревшие за эти несколько дней лица рабочих, на их воспалённые от бессонницы глаза, на заскорузлые от работы руки, которые только что держали винтовку. Нарушил молчание Иван Герасимович. Он встал и долго, как Клава, смотрел на своих друзей, потом тихо, медленно подбирая слова, заговорил:
– За последние дни особенно стало ясно, какая сила – рабочий класс и его партия. Мы доказали всему миру, своим палачам, на что способны, когда дело идёт о нашей свободе. Нас не обманешь больше посулами да обещаниями. Хватит! Царь-батюшка накормил нас пушками да свинцом. Свою свободу мы завоюем только своими руками.
Но час наш ещё не пробил. Палачи сейчас сильнее нас. Продолжать борьбу – выходит, дать злодеям перебить наших лучших людей. Они только этого и хотят – выжечь, потопить в крови. Московский Совет правду говорит – кончим восстание организованно. Сохраним оружие, выведем людей, сбережём силы для новых боёв…
Иван Герасимович остановился, потёр рукой глаза, провёл по волосам.
– Да, товарищи, в этом сейчас наша задача. – Он опять остановился, обвёл взглядом слушавших его людей. – Как вы думаете? Что ты скажешь, Кузьма?
Кузьма, худой, с обвисшими прокуренными рыжими усами, неторопливо встал, одёрнул куртку и неожиданно высоким и нежным голосом сказал:
– Что ж, Иван Герасимович, думать и гадать тут нечего. Сами понимаем, не без голов. И молчим мы тут не потому, что сумлеваемся, а больно уж уходить с Пресни неохота, своя она, родная. Кровь за неё проливали…
– Так вернёмся ещё, дядя Кузьма, – перебил его молодой голос.
– Ну дык и я говорю, что вернёмся, а я что, разве другое толкую?
Клава вышла в коридор, присела на подоконник, прислонилась спиной к стеклу. Окна запорошило снегом в палец толщиной, но холода она не чувствовала. Устало прикрыла глаза. Кончилось заседание Совета, сейчас кончится совещание боевого штаба. На нём все начальники дружин. До неё доносился голос Седого, его распоряжения…
– Клавочка, устала, дорогая? – очнулась она от тихого голоса Андрея. Он сидел тоже на подоконнике, держал её руку в своей. – Кончилось заседание. Вот послушай – последний приказ штаба:
«…Мы начали, мы кончаем… Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это – ничего.
Будущее – за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству…»
– Осталось несколько часов. С утра каратели начнут гвоздить по Пресне. Тяжёлую артиллерию подтянули… А сколько ещё надо сделать.
Помолчали. Андрей смотрел на Клаву, на её бледное тонкое лицо, чёрную, выбившуюся из-под платка прядь волос.
– Вот что, Андрюша. – Клава сняла варежку, тёплой рукой провела по небритой щеке Андрея. – Хотела сказать тебе… Поберегись немножко… Нам ещё жить надо… – Голос её осёкся, она замолчала, прикусив губу, но глаз не отвела. Большие, тёмные на похудевшем бледном липе, они смотрели на Андрея не мигая. – Ведь я тоже очень люблю тебя, на всю жизнь… А сейчас пока, до свидания… Поцелуемся, Андрей.
Они встали и, крепко обнявшись, поцеловались крест-накрест по-русски три раза.
Потом Клава быстро пошла к выходу. В дверях оглянулась: Андрей стоял и смотрел ей вслед.
– Так, значит, Патриаршие пруды. Борейко. Квартиру помнишь.
Она в последний раз улыбнулась ему, посмотрела, как он, взмахнув рукой, кивнул ей головой и тоже улыбнулся. В улыбке сверкнули его белые зубы.
Блохин узнал о приказе штаба на баррикаде. Дружинники молча выслушали Андрея:
– Заложить фугас, самим отходить к Пресненской заставе. Оружие сдать в указанные приказом места. Установку фугаса поручаю тебе, Блохин.
– Ты бы с нами, Андрей. Привыкли к тебе, всё веселее вместе.
– Сейчас не могу, ребята. На Прохоровку надо – снять посты, ликвидировать боеприпасы – приказ штаба. На заставе встретимся. – И, крепко пожав руки товарищам, он зашагал вверх по Большой Пресне.
Дружинники обстоятельно, по-хозяйски собирали оружие, осматривая в последний раз свою баррикаду.
– А жаль всё-таки отдавать её карателям. Здорово она нам послужила.
Блохин распоряжался, как лучше заложить фугас.
– Чтоб в самую душу им, сволочам…
Чуть брезжил рассвет. Было особенно, по-утреннему, холодно и неуютно.
– Поди, часа четыре будет. Рано ещё… Сейчас самый сон. В аккурат к бабе под бочок…
– Вот он тебе саданёт под бочок, сразу жарко станет. Собирайся живей.
Вдруг ночную тишину разорвал залп. Первые снаряды пронеслись с воем над головами, затем один из снарядов дал недолёт и обсыпал дружинников вихрем свинцовых пуль. Блохин понял, что следующий снаряд попадет прямо в баррикаду.
– Сматывай, ребята, удочки, иначе всех нас сейчас прихлопнут, тяжёлое бьёт. С этой шутки плохи, – скомандовал Блохин дружинникам и, низко пригнувшись к земле, юркнул в ближайшую подворотню.
За ним последовали другие защитники баррикады. Будто гигантские молоты, били частые разрывы снарядов по баррикаде. В воздух взлетали брёвна, куски железа, щепа. Одновременно солдаты с криками «ура» пошли в наступление. Но только они приблизились к баррикаде, как раздался оглушительный взрыв.
– Ура! Бей их! – выскочили из ворот дружинники, забрасывая бегущих солдат бомбами-македонками.
Атака семёновцев захлебнулась. Дружинники бросились в ворота соседних домов, ожидая повторения наступления.
– Братцы, гляди-ка, – выглянув из ворот, закричал Блохин, – вот это номер, испугались нашего фугаса семёновцы, отступили! И, видать, наступать не собираются. Пошли-ка и мы на баррикаду, что раньше времени уходить!
Солдаты больше активности не проявляли, вяло постреливая в сторону баррикады.
– Чудное дело получается, – не вытерпел Блохин, – не пойму что-то, чего это они присмирели. Не иначе, как прорвались на Пресню в другом месте.
– Тикать надо, товарищи, – проговорил молодой дружинник, – да и время, должно, уж много…
Дав залп из винтовок в сторону семёновцев, дружинники покинули баррикаду и направились к заставе.
Только спустя много времени, поняв, что рабочие ушли с баррикады, семёновцы рискнули подойти к ней. Заняв баррикаду, солдаты бросились обыскивать близлежащие дома, вытаскивали всех захваченных в них жителей на улицу. Человек пять мужчин отвели в глубь двора. Среди них один был в форменной фуражке с кокардой. Он ни за что не хотел подчиняться солдатам и громко протестовал против насилия.
– Я буду на вас жаловаться господину градоначальнику. Я чиновник четырнадцатого класса, коллежский регистратор. Вы не имеете права приравнивать меня к рабочим. Я личный дворянин! – громко выкрикивал он.
– Что с ним делать, вашбродие? – обратились солдаты к своему командиру.
– Набейте морду и отпустите! – приказал офицер.
Чиновника несколько раз ударили по шее и пинками выпроводили со двора.
Остальные четверо, в простых поношенных пальто, видимо из рабочих, хмуро стояли, окружённые солдатами. Вдруг один из них выхватил винтовку из рук зазевавшегося солдата и, вскинув её наперевес, бросился на офицера. Но солдаты прикладами сбили его с ног и начали топтать своими сапожищами. Рабочий стонал и старался, как мог, прикрыть своё лицо.
– Да не возитесь вы с этой сволочью! – крикнул офицер и выстрелил несколько раз подряд в истерзанное, распростёртое на заснеженной окровавленной земле тело рабочего.
В это время открылось окно во втором этаже, и из него высунулась женщина с большим тазом в руках. Солдаты задрали головы, глядя на неё. Тогда женщина выплеснула содержимое таза им на головы.
Поднялся страшный вой. Солдаты смахивали с лиц едкую жидкость и тем ещё больше усиливали обжигающее действие. Острый запах серной кислоты всё усиливался.
– Не растирайте руками, дурни, кислоту по мордам. Смывайте её водой, – скомандовал офицер.
Многие солдаты были тяжело изувечены крепкой кислотой.
По распоряжению офицера дом тщательно обыскали, удалось задержать ту женщину, которая облила серной кислотой. Она была ещё совсем молода, миловидна, но держалась смело до дерзости.
– Убивайте меня, палачи, но мои метины на ваших подлых мордах останутся до самой смерти! – дерзко бросила она в лицо офицеру и солдатам.
– Вспороть ей брюхо! – распорядился офицер. Женщину увели в сторону, задрали юбку, и кто-то из солдат полоснул штыком по её животу. Она дико закричала. Один из солдат сжалился над ней и приколол её.
С Пресненской заставы, куда с другими дружинниками попал Блохин, хорошо была видна вся улица Большая Пресня, перегороженная в нескольких местах баррикадами. Внизу, недалеко от зоопарка, уже хозяйничали солдаты. Ближе к заставе ещё виднелись красные флажки на баррикадах, но и там уже не было дружинников, и только трусость мешала солдатам снять эти баррикады. Не решаясь подойти к ним, пехота и артиллерия продолжали сильно обстреливать их. Правее горели мебельная фабрика Шмита и жилые дома. С Кудринской площади пушки били прямо по пожарищу. Огромные багровые языки взлетали всё выше и выше. Грохнул сильный взрыв, и во все стороны вместе со снопами искр разлетелись огненные головёшки. Сразу задымились крыши соседних деревянных домов. Пожар разрастался. Было видно, как десятки людей пытались гасить новые очаги огня, спасая своё жилье и имущество. Но над ними тотчас разорвалось несколько шрапнелей, и перепуганные, искалеченные люди исчезли с крыш.
В то время со стороны Ваганьковского кладбища раздался гулкий артиллерийский залп, и над пожарищем разорвалось ещё несколько снарядов.
– Вперехлёст взяли: бьют и с Кудринки, и с Ваганькова. Конец Пресне приходит. Заберут её каратели!
– Тикать отсюда надо. Иначе всех, как куропаток, перестреляют, – слышалось в толпе.
На заставу стекалось всё больше и больше дружинников. Они внимательно вглядывались в сумерки, стараясь найти выход из окружения.
– Вот что, товарищи, – обратился к ним Иван Герасимович. – Будем пробираться к Ваганьковскому кладбищу. Там, правда, стоит артиллерия, но пехоты совсем мало. Нагрянем на них из темноты с разных сторон, вызовем панику, а сами тем временем вырвемся с Пресни.
Глава 8
Дружинники разбились на небольшие группы и начали пробираться от заставы к Ваганьковскому кладбищу. Маленькие покосившиеся деревянные домики, дровяные склады, штабеля леса – всё это служило им хорошим прикрытием для наступления.
Не встречая никакого сопротивления, дружинники незаметно перелезли через забор кладбища и на площади перед главным входом на кладбище увидели две пушки, которые прикрывал взвод пехоты. Артиллеристы вели прицельный огонь по пожарищу и по Большой Пресне, разбивая баррикады у Пресненской заставы.
Пехотинцы с интересом следили за стрельбой и меньше всего думали о прикрытии пушек от внезапного нападения дружинников. Неподалеку от орудий расположились артиллерийские упряжки и зарядные ящики с патронами.
Офицеры находились немного в стороне и с крыш домов наблюдали за результатами стрельбы. Около наблюдательного пункта стояли ординарцы с офицерскими лошадьми.
Дружинники вышли во фланг и тыл орудиям. По условному сигналу они дали дружный ружейный залп по солдатам и бросились к пушкам. Не ждавшие нападения артиллеристы заметались около пушек. Подлетели передки и успели одно орудие вывести на карьер с позиции.
Но лошади другого орудия оказались ранеными и не смогли подъехать к пушке. Перепуганные номера бросили пушку и скрылись в темноте. Пехота последовала за ними. Офицеры, как воробьи, слетели с крыши. Они уже твёрдо усвоили из боев предыдущих дней, что офицерам дружинники пощады не дают, и потому, вскочив на лошадей, карьером помчались в темноту. О сопротивлении никто из них не подумал.
Дружинники подошли к оставленной солдатами пушке. Возле неё лежало несколько снарядов, но среди рабочих артиллеристов не оказалось. Тут подошёл Блохин.
– Угостим царских палачей из их же пушки! – предложил он. – А ну, ребята, подсобляй! Я за наводчика, а вы слухайте мою команду.
В темноте трудно было разглядеть деления прицела, но это мало смущало Блохина. Он на глаз придал орудию угол возвышения и навёл его на взблески выстрелов на Кудринской площади. Сам зарядил пушку, поставил шрапнель на пятьдесят делений, дёрнул за шнур. Пушка с грохотом откатилась по накатнику и снова встала на своё место. Снаряд разорвался где-то около зоопарка.
– Надо прицел прибавить, – решил Блохин.
Новый снаряд разорвался уже над Кудринкой.
Выпустив все снаряды по Большой Пресне, где уже хозяйничали солдаты-семёновцы, Блохин снял с пушки замок и прицел.
– В колодец их! – распорядился он.
– Расходись! – приглушенно донеслась из темноты команда.
Блохин стал пробираться к Трехгорной заставе, а оттуда по Нижне-Пресненской улице к Кудринской площади, а там и Патриаршие пруды рядом.
Невдалеке догорала мебельная фабрика Шмита и дымились пепелища других, более мелких строений. По всем улицам продвигались отряды солдат. Было очевидно, что вся Пресня занята царскими войсками. Об одном сейчас думал Блохин, – как бы скорее выйти к зоопарку и попасть к Борейко.
Впереди он увидел рабочего в чёрном поношенном пальто, который шёл с винтовкой в руке.
«Вот дурак! – мысленно выругал его Блохин. – Наскочат солдаты, мигом под расстрел попадёт».
В это время из-за угла показался отряд семёновцев. Их нетрудно было узнать по белым поясам на шинелях. Блохин подбежал к рабочему, вырвал у него из рук винтовку и процедил сквозь зубы:
– Беги, растакой сын, покеда тебя не прикончили! Подсумки тоже скинь.
Молодой парень сразу смекнул, что его хотят спасти от карателей. Не раздумывая долго, он исчез в темноте, а Блохин с винтовкой и двумя подсумками вышел к семёновцам.
– Стой! Куда прёшь? – окликнули его солдаты.
– Дезертир? – подскочил к нему офицер.
– Никак нет, вашбродие! Портартурец я. Сегодня в Москву с Дальнего Востока приехал, – ответил Блохин.
– А винтовка откуда? – допрашивал офицер.
– У цивильного отобрал. Вижу, идёт по улице с ружьём. Думаю: по какому такому праву цивильный ходит с казённой винтовкой? Отобрал я у него оружие, а тут как раз ваши солдатики идут – ну, я и подошёл к ним, чтобы передать им винтовку и подсумки, – пояснил Блохин.
– А почему самого цивильного не задержал? Это же мятежник был, понимаешь, дурья голова! – топнул от возмущения ногой офицер. – Отвечай, где он?
– Убёг, вашбродие! В темноте сховался, нигде его не видать, – оглянулся по сторонам Блохин.
– Убёг, убёг, – зло передразнил его офицер. – За то, что ты упустил рабочего-повстанца, мы тебя самого расстреляем, – пригрозил офицер. – Как на Пресню попал?
– Послал меня командир роты, поручик Борейко, купить кой-чего пожрать, а я заблудился, – соврал Блохин. – Туда пойдёшь – стреляют, в другую сторону подашься – тоже палят. С ног сбился… Год в Артуре воевал, три ранения имею, два креста получил, пошёл сполнять приказание командира и… Вашбродие, извольте на мои бумажки посмотреть, – протянул он свои документы офицеру.
– Посмотри, что там у него! – небрежно бросил офицер унтеру.
– Давай сюда, – подвёл унтер Блохина к фонарю и по складам принялся читать бумаги. Эта процедура заняла довольно много времени.
– А ты, часом, не переодетый цивильный? – подозрительно оглядел его унтер.
– Хочешь, портки скину и казённое клеймо покажу? – предложил Блохин.
Унтер распахнул его шинель и обыскал.
– Цивильные тебе ничего не давали?
– Да на какого лешего они мне? Говорю же, заблудился. Ведь впервой я в Москве, – уверял Блохин.
– Ну как, разобрался? – подошёл офицер.
– Так точно, Ваше благородие, – ответил унтер. – Бумажки хорошие. Видать, настоящий герой. Кровь в Артуре проливал…
– Всё равно расстрелять, чтобы не шлялся где не надо! – махнул рукой офицер.
– За что же, вашбродие? – перепугавшись не на шутку, насупился Блохин. – У меня жена, дети, за престол воевал, а тут расстрел незнамо за что!
– Ты артиллерист? – справился офицер.
– Так точно, вашбродь, артиллерист, Квантунской крепостной артиллерии бомбардир-лабораторист.
– Это ещё что за должность? – удивился семёновец.
– В лаборатории, значит, снаряды снаряжаем порохом или пироксилином, – объяснил Блохин.
– Всё ты врёшь, – не поверил офицер и обернулся к унтеру: – Позови-ка кого-либо из господ офицеров-артиллеристов. Сейчас разберёмся, что это за птица.
Подошёл артиллерийский поручик, и семёновец поделился с ним своими сомнениями относительно Блохина. Поручик просмотрел документы Блохина.
– Кто у тебя был командиром артиллерии? – спросил он.
Блохин назвал.
– А ротой кто командовал?
– Их благородие поручик Борейко.
– А какой он из себя?
– Здоровенный такой. Выше вас на голову, вашбродие. Водку пить был страсть здоров. Ведро выпьет и не пьянеет, – с уважением произнёс Блохин.
Офицеры захохотали.
– Герой, значит, вроде тебя? – усмехнулся семёновец.
– Правильно. Я этого Борейку знаю, вместе в артиллерийском училище были. Детина ражий и выпивох здоровый. Любого на курсе мог перепить и никогда пьяный не был, – проговорил поручик.
– Так точно! – поддакнул Блохин. – Да изранило их в Артуре. На двух костылях ходят и больше стакана водки не кушают! Беда, да и только!
– Морду он тебе часто бил? – справился семёновец.
– Без дела не дрались! А за дело и обижаться нечего, – дипломатически ответил Блохин.
– Правильно, – одобрительно кивнул поручик.
– Врёт он или нет? – спросил семёновец артиллериста.
– По-моему, нет! – твердо заявил тот.
Офицер-семёновец взглянул на Блохина, махнул рукой:
– Пошёл ко всем чертям! Чтобы духу твоего здесь не было!
– Покорнейше благодарю, вашбродь! – гаркнул Блохин.
Теперь Блохин старался не попадаться на глаза солдатам и особенно офицерам, хотя сам был в солдатской шинели.
Блохин за эти дни узнал все ходы и выходы на Пресне, но только на Пресне. Поэтому он и обратился к женщине с вопросом, как пройти к Патриаршим прудам.
– Проваливай к своим карателям, там тебе покажут дорогу в палачи, – злобно бросали ему в ответ.
– Ишь ты, сирота заблудшая, – провожали его хмурыми взглядами. – Плачет по тебе, палачу, пуля дружинника!
Раза два над головой Блохина со свистом проносились пули, неизвестно кем и откуда выпущенные. Но стреляли, видимо, по нему. Приходилось держаться поближе к стенам домов и мест потемнее.
– Слава богу, живы-здоровы! – облегчённо вздохнула Ольга Семёновна, увидев его.
Закрыв дверь, она провела Блохина в комнату.
– Ну, герой, здорово! – радостно встретил его Борейко. – Иди, чёрт рыжий, поцелуемся! Я, брат, всё знаю, можешь молчать. Эх, Филя, если бы не моя нога, если б вернуть прежнее здоровье, я бы ещё показал себя.
Открылась дверь, из соседней комнаты вышла Клава. Она была в Наташиной шерстяной кофте. Длинные тёмные косы, как змеи, спускались до самых колен.
– Здравствуйте, Филипп Иванович, – сказала она. – Как наши? Где они?
– Да, по-моему, всё в лучшем виде. У Ваганьковского кладбища видел Ивана Герасимовича и других… Потом я отделился от них, стал пробираться сюда.
– А Андрея не видели? – тихо спросила Клава.
– Андрея? Нет. Последний раз видел утром на баррикаде, он ещё приказал фугас заложить. А сам пошёл на Прохоровку. Говорит – посты надо снять, и боеприпасы опять же там…
Помолчали. Оля подошла к Клаве, накинула ей на плечи шерстяной платок.
– Ты бы прилегла, Клавочка. Может, уснула бы. Придёт Андрей, он тебя сам разбудит.
– Нет, дорогая, я уж посижу лучше. – Клава зябко закуталась в платок, удобнее уселась в кресле. Подобрав под себя ноги, замерла.
– А мы, брат, пойдем-ка на кухню, подзаправимся немного по-солдатски. Чай, голодный?
– Сейчас бы водочки самую малость да горяченьких щец. Во сне даже снились…
Борейко ловко подхватил костыль и, держась другой рукой за Блохина, захромал в кухню. Оля тоже пошла за ними, собрать на стол.
Когда спустя некоторое время она вернулась в комнату, то увидела Клаву уже одетой. Волосы были уложены сзади в большой узел, на голове маленькая изящная меховая шапочка, ладную фигуру обтягивала узкая жакетка с меховым воротником, в руках муфточка, – элегантная молодая дама, только с чуть бледным, утомлённым лицом.
– Я пошла, Оля. В десять часов должна быть в одном месте – таков приказ. Там увижу Ивана Герасимовича, может быть, Андрея. Во всяком случае, узнаю всё. Прощай, родная. Ещё увидимся.
Прошло несколько дней. Борейко проводили Блохина в деревню, нагрузив подарками детям и жене.
– Спасибо вам за всё, Борис Дмитриевич, и вам, Ольга Семёновна. Увидите пресненских, передайте им поклон.
– Ты, Филя, не пропадай. Если что, дай знать. Мы пока в Москве задержимся, врачи тут хорошие. А потом будем перебираться куда-нибудь потеплее – на юг, наверное. На всякий случай у тебя адрес Звонарёвых есть. Держи связь через них. Да и они люди стоящие, на них положиться можно… Пиши, друг.
Блохин тепло, по-родственному простился и заспешил на вокзал.
Оля была на кухне, когда раздался звонок. Открыв дверь, она увидела женщину в большом сером платке и с плетёной корзинкой в руках.
– Кого вам, милая? – удивлённо спросила она. Женщина поправила рукой платок, и на Олю глянули знакомые серые глаза.
– Господи, Клавочка! Разве вас узнаешь…
Клава поставила в коридоре корзину, прошла в кухню не раздеваясь.
– Я к тебе на минутку. Проститься зашла. С чаем не хлопочи. Оставь. Сядь лучше. – Она развязала платок, положила его на колени. Чтобы не вскрикнуть, Оля больно закусила губу. Перед ней сидела женщина с очень бледным, усталым лицом, коротко подстриженные чёрные волосы были забраны под гребенку. Серые под пушистыми нежными бровями Клавины глаза смотрели с чуть заметной усмешкой.
– Клавочка, милая, – не выдержала Оля. – Что случилось?
Клава глядела в окно, молчала.
– Два дня тому назад расстреляли Андрея и с ним ещё несколько человек дружинников. На Прохоровке, во дворе… Их там и схватили – не успели скрыться.
Поражённая Оля молчала. Она с ужасом смотрела на Клаву, на её спокойное, точно каменное лицо, на чуть дрожащие пальцы рук, бессильно лежащие на платке.
– Они сражались, – доносился до Оли тихий, глуховатый голос. – Небольшая группа храбрецов против целого отделения солдат. – Клава замолчала, потом, будто собравшись с силами, добавила: – Когда их поставили к стенке, во дворе было много рабочих, арестованных. Андрей крикнул: «Прощайте, товарищи, боритесь за дело рабочих, да здравствует Красная Пресня!» И запел «Варшавянку», они все пели… до конца.
Клава взглянула на Олю, на её бледное, залитое слезами лицо и быстро отвела глаза. Голос её дрогнул, когда она попросила:
– Не плачь, Оля, прошу тебя. Мне плакать нельзя, я должна быть твёрдой и смелой, как он. И я такой буду.
– Клава, милая… – Оля бросилась на колени, схватила Клавины руки, спрятала в них лицо.
– А знаешь, Оля, – голос Клавы потеплел. – Я всё-таки счастливая… Даже в своём горе. У меня был Андрей, лучший человек на свете, самый любимый на всю жизнь. И он для меня не умер, он живёт вот здесь, в сердце. Я буду с ним всё время вместе, как он хотел. Я так и унесла его в памяти таким, как видела в последний раз. В сумраке коридора он стоял около замёрзшего окна, смотрел мне вслед. Я оглянулась – он улыбнулся мне, ярко блеснули его белые зубы, взмахнул рукой…
Клава умолкла, на губах её дрожала улыбка. Она встала, распахнула пальто, подошла к окну, рука привычным жестом потянулась к причёске.
– Всё никак не привыкну, что нет кос.
– Зачем же ты, такие косы!
– Что косы… Зачем они мне? Без них удобнее, да и для конспирации лучше. А сейчас у меня ответственное задание. Еду в Польшу. Ну, милая… – Клава подошла к Оле, обняла её. – Прощай, будь здорова и счастлива, поцелуй за меня своего мужа. Он у тебя славный. Думаю, что ещё увидимся. После того, что пережили, не можем не увидеться. Оставлю тебе адрес одного нашего товарища. Так, на всякий случай, – добавила она, улыбнувшись. Повязала низко платок, взяла корзинку, вышла, тихо прикрыв дверь.