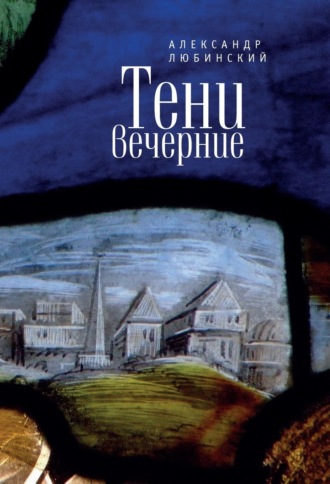
Александр Любинский
Тени вечерние. Повести
VIII
В один из мартовских дней – теплых, влажных от тающего черного снега, я сидел в огромном пустом аквариуме пивного бара в Сокольниках вместе с Андреем и Любой. Лениво бренчала посуда на мойке, перекликались голоса официанток. Вплотную к стеклянным стенам подходили черные продрогшие деревья, а дальше, сквозь рваные клочья тумана виднелась рифленая крыша и голый флагшток.
– И тут мы увидели другого. Он стоял под деревом, и в руке его что–то блестело!
Любино лицо выразило приличествующий положению ужас.
– Я говорю: пойдем, зачем связываться? А он, конечно…
– Глупости. Ничего там не блестело.
– Блестело, блестело!
Потерлась щекой о его плечо. Он глотнул пиво, поморщился.
– Старое.
– Не пей больше.
Резким движением схватила кружку, скользкая ручка вывернулась, кружка со звонким стуком упала на пол.
– Кто тебя просил!?
– Ой, миленький, я нечаянно, правда!
Я позвал уборщицу. Лениво ругаясь, она подобрала черепки и вытерла пол.
– Черт! И всегда ты лезешь!
– Ну и ладно, ну и ладно…
Демонстративно отодвинула стул.
– Не делай из мухи слона. Ну, выше голову! – взял ее за подбородок, повернул к себе. – Кончай дуться.
Несколько мгновений она смотрела на него стеклянными пустыми глазами, медленно отвела руку.
– Холодные пальцы… Павлуша, у него всегда ужасно холодные пальцы.
– Да?
– Ага. Ужасно холодные.
Он, наконец, перестал, брезгливо морщась, изучать цвет пива и обратил внимание на меня.
– Что поделываешь?
– Пишу диплом.
– У Чухначева?
– Да.
– Похвальная стойкость.
– Я не нуждаюсь ни в чьих похвалах.
– А я и не хвалю. Просто отмечаю. Про себя.
Мотнул головой в сторону застекленных деревьев. Трагически понизив голос:
– Моя последняя весна.
– Знаешь, я не понимаю твоего настроения…
– Как грустно мне твое явленье – весна, весна, пора любви…
– Не надо паясничать.
– Всегда так. Читаешь стихи – паясничаешь, пьешь пиво – занимаешься делом.
– Что ты намерен делать дальше?
– В каком смысле?
Откинулся на спинку стула, позвякивает пустой кружкой о стол.
– Скоро распределение…
– А… Еще не думал. Человек отличается от прочих животных тем, что ему присуща свобода выбора.
– Слышал. Захочу – будет, не захочу – не будет.
– Вот–вот. Тяжкий груз решений.
– Вы все говорите не о том! Знаете, на что это похоже? Несется поток, а в нем люди. Поток захлестывает их, они скрываются, выныривают, судорожно разевают рот, кричат: свобода, свобода! Захлебываются, снова пытаются крикнуть… Очень неприятное зрелище.
Наклоняется, целует ее в лоб.
– Ты моя умница.
Наползает туман, размазывает контуры деревьев, укутывает павильон густой тускло–серой ватой.
– Пора.
– Куда спешить… Ведь все свершается помимо нас. Правда, дорогуша?
– Ненавижу этот твой тон.
– Давно ли?
– Пошли.
Я встал.
– Нам надо кое–что выяснить.
– Выясняйте без меня.
– Гуд бай, Павлик, гуд бай…
А… Заходи. Ну, проходи же! Что, плохо, да? Одиноко? Молчишь… Мириться пришел. Как же, взрослеешь на глазах… Не нравится. Раздумал мириться… Стой! Садись. Раз уж такой умный… Итак, с чего начнем? Ах, да – с правил игры… Лето, сосны, качели. Он – некрасив, но весьма мил. Она – сплошное очарованье. Она качается, а он раскачивает. Трик–трак, трик–трак – выше, выше – до сосен, до неба! О чем говорить, и зачем? Разве мало улыбки, прикосновения, взгляда? Разумеется, он студент и слегка ироничен. Но боже мой, какое у него детское, беспомощное лицо, как сухи и жарки губы… Стоп, стоп! Повторим кадр! Больше страсти, больше огня! Не успели… Война. Мы с матерью убежали из Москвы в маленький городок на Волге, а его – забрали на фронт. Думаешь, я ночи напролет плакала и у детской кроватки тайком молилась за него? Как бы не так. Ту жизнь отрезало намертво. Голод, бомбежки, разгрузка вагонов… Руки в крови, тело в ссадинах. И все же через год я уже целовалась по –настоящему в поле за пакгаузами, лежа на рваном ватнике и запрокинув голову – к небу! Нет, ты не родился тогда, ты ждал своего часа, и он был еще не скоро. В конце сорок четвертого я вернулась в Москву. Мать умерла от тифа, отец сгинул еще в тридцать седьмом. Теперь на всем белом свете я была одна… И вдруг я встречаю его на улице! Он не изменился. Почти. Прихрамывал только, и палочкой по асфальту: трик–трак, трик–трак. Нет, изменился. Я поняла это, когда уже было поздно… Мы расписались. Я переехала к нему, в его огромную пустую комнату и стала чем–то вроде стула у стены или, скорее, новой кроватью. Всю жизнь я видела отца – со спины. Теперь я видела спину мужа. Он устроился в какую–то редакцию. Днем пропадал там, а ночами – ночами писал чудовищную, несусветную абракадабру без начала и конца: младенческие воспоминания, война, первая любовь, эротические сны, снова война… Сначала мне было его жалко – с огромным упорством он бился над каждым словом, чтобы потом, утром, я нашла плоды его ночных бдений в мусорной корзине… Но так продолжалось изо дня в день, из месяца в месяц. Рукопись росла, и истощалось мое терпение. Наконец, я возненавидела его холодной тихой ненавистью. В это время у меня как раз появился… Хм, впрочем, это… Какая я была дура! Думала, прошлого нет. Есть сплошное, никогда не кончающееся настоящее! Как бы не так… Его забрали, и тот – порвал со мной. Сразу, без лишних разговоров. Ко всем радостям, я еще оказалась беременна… Что стало с рукописью? Какое это имеет значение! Был обыск. Перерыли, напакостили… Опять сбилась. Не мешай. Я стала считать. Все выходило ужасно глупо. Я была на третьем месяце. С тем – было еще рано. Значит, со своим, законным. Прекрасно! Я не потеряла голову, нашла бабку, и та согласилась. В назначенный срок я пришла к ней с двадцатью рублями и бутылкой водки. Она уже ждала меня. Все было готово. Я выпила стакан для храбрости и вдруг… что–то надломилось внутри, началась истерика… Тебе неприятно, да? Я знаю, тебе неприятно… Молчишь. Такой же тихий и упрямый, с мозгами, свихнутыми набекрень! Бабка оказалась верующей или что–то в этом роде… Смешно. Положила меня на кровать, под образа, и когда я пришла в себя, сказала: «Не душегубствуй. Зачтется». И я подумала: а, может, и впрямь зачтется, и муки мои кончатся? Мы допили бутылку и оставили тебя… в живых. Что было потом? Жизнь в коммуналке, детские болезни, стирка, готовка… Реабилитация отца. И снова, в который раз, ожидание – и тоска… Но тебе это неинтересно, правда? Тебе это совсем неинтересно…
IX
Я вижу темную комнату и человека, входящего в нее. Огонек свечи – у него в руке, маленькой свечки, которую он несет и укрепляет на жестяной подставке посреди стола. Его движения вялы и неточны. Он что – то бормочет и покачивает головой. У него гладкие, зачесанные назад волосы, непропорционально длинная шея, длинные руки и ноги. Он кажется подростком, хотя ему уже двадцать лет. Он садится на стул и озирается кругом с напряженно – болезненным, тупым выражением, словно пытаясь что – то вспомнить. Ему неприятно, не по себе, он мотает головой, его волосы разлетаются в стороны, и он старательно приглаживает их двумя ладонями. Входит девушка. Сначала лишь угадываются в темноте мягкие скользящие линии ее тела. Она подходит к столу, наклоняется к свечке, поправляет ее. Она одета в светлую кофточку и короткую юбку. Он медленно поворачивает голову, протягивает руку, касается пальцами ее лица.
Люба: Павлуша, ты пьяный?.. В первый раз вижу тебя такого. Смешной. (Осторожно отводит от лица его тяжелую вялую ладонь. Делает несколько шагов по комнате.) А мне даже очень нравится. Катакомбы, пещеры… Здорово! Хоть бы не починили.
Павел (бормочет под нос): Катакомбы, пещеры… Гроб Господень… (Тянется к полупустой бутылке, бережно наливает из нее.) Дар Константина.
Люба: Что? (Стоит, прислушиваясь к шуму за дверью.)
Павел (медленно потягивает вино из рюмки): Я – филин… Огромные красные глаза, и я вращаю ими. Крючковатый нос, круглые, как локаторы, уши. Сижу, вращаю глазами, хлопаю ушами… Все вижу, все слышу…
Люба (прислушиваясь): Что ты видишь, что ты слышишь?
Павел (подносит палец к губам): Тсс… Это тайна.
За дверью слышны два возбужденных, перебивающих друг друга мужских голоса.
Павел: Подойди сюда. (Хватает ее за руку, притягивает к столу.) Сядь. (Она садится на край стула. Он отпускает руку.) Хм… Ты не догадываешься?
Люба (отрешенно и вежливо): Нет.
Павел (сжимаясь и тихонько покачиваясь): Я давно… Я тебе… То есть…
Пауза
Люба (встает): Понимаю. Не надо.
Навел: Ты думаешь…
Люба (неожиданно резко, почти крича): Да, да! Не надо! Не хочу! Я так устала за эти полгода… Мне кажется, я постарела на десять лет. (Делает несколько нервных шагов по комнате.) Ужасная темнота! Когда они, наконец, починят?
Павел: Ты… его не знаешь. Мне жалко. Да, мне очень жаль.
Люба (со смешком): Не жалей, я знаю, на что иду.
Распахивается дверь. Появляются Илья и Андрей. Андрей несет свечу.
Андрей: Ба! Какой интим. (Подходит к столу, укрепляет свечу на жестянке рядом с первой, внимательно смотрит на Павла, оглядывает стол.) Этот тихоня долакал под шумок все остатки. Что будут пить остальные?
Илья (подходя к Любе, смущенно): Не получается. Дурацкие пробки…
Люба (Андрею): Надо что–то сделать. Эта темнота… Она мне действует на нервы!
Пауза
Андрей (сухо): Ты слишком нервничаешь в последнее время. К сожалению, я не монтер.
Люба: Странно. Ты же можешь – все!
Андрей: Хорошо. Бегу в ЖЭК. Сейчас! Немедленно!
Илья: Семейная сцена. Пойдем, Павлуша.
Люба: Нет, нет, ребята… Ради Бога! Я вас очень прошу!.. Так обидно. Вы в первый раз здесь… то есть… когда мы с Андреем… и вот…
Павел (с напряженно–тупым выражением лица): Гроб Господень, дар Константина… (Тянется за бутылкой, вертит ее в руке.) Пусто!
Андрей: Ладно, так уж и быть.
Направляется в темный угол, роется там и, подойдя боком к столу, жестом фокусника водружает на стол бутылку.
Павел (бьет в ладоши): Гип–гип, ура!
Люба (немного обиженно): Где ты ее прятал?
Илья (деловито отвертывая пробку): Обыкновенный фокус–мокус. Наш друг Андрей любит… (выдергивает пробку) фокус–мокусы. По этому поводу выпьем–ка еще раз за гостеприимных хозяев… (разливает, все берут бокалы), сочетавшихся э…
Павел: Гражданским…
Илья: Нет, фактическим… Так будет точнее. Фактическим браком.
Павел (взмахивает рукой, вяло и безжизненно): Пуф… Фокус.
Люба: Вы считаете, что так уж важно… расписаться? В жизни ужасно много формальностей. Главное ведь совсем не в этом…
Андрей: В чем?
Люба: Тебе непонятно?
Андрей: Нет.
Пауза.
Люба: А я, кажется, начинаю понимать… Ты идешь тропинкой в горах и спихиваешь в пропасть камешек… Ты не хотел, не думал… Ты просто не мог иначе! Тропа так узка, так трудно идти все вверх и вверх… Камень заскользил вниз, посыпался ручеек, превратился в реку – и хлынул в ущелье каменный поток. А ты, балансируя на узком пятачке, с ужасом видишь, как земля начинает ссыпаться у тебя из–под ног. Мгновенье, и ты сам летишь вниз вместе с грудой камней!
Пауза
Андрей: Печально. Что же это за проклятый камешек?
Илья: Надо знать путь к вершине или… оставаться внизу.
Андрей: Пророк, провидец, про… Внемлите!
Люба (Андрею): Не чувствуешь, как сыплется, нет?
Андрей (Илье): Ты, кто зрит пути Господни и столь чист, что может указывать другим…
Павел: Аллилуйя! Пуф, пуф…
Илья: Я – вижу!
Павел: Подбавьте света! Слишком темно.
Илья: Я знал, что ты этим кончишь.
Андрей: Кончишь. Конченный…
Павел: Концовка.
Андрей (кричит): Люба, где мои пистолеты?
Люба сидит неподвижно.
Илья: Бог мой, все это можно было предвидеть! Я помню, как увидел тебя в первый раз… Какой ты был напряженный, как боялся ошибиться, сказать неверное слово… Болезненное самолюбие и тщеславие провинциала!
Андрей: Говори, говори. Хочешь посмотреть, как я бьюсь головой о стену? Не дождешься!
Илья: Но ты рос… О, да, ты рос. Не по дням, а по часам! Стремительно полировался, шлифовался, обкатывался. Становился этаким… суперменом, и мы все – помогали тебе в этом! Ах, ты был такой необыкновенный… Как быстро ты усвоил эту презрительно–ироническую манеру, бойкость языка и небрежную ловкость обхождения с женщинами. Ты и со мной себя вел так… будто я тоже женщина, которую нужно завоевать, покорить, приторочить к седлу!
Андрей: Что ж, не завоевал?
Люба (тихо и бесстрастно): Завоевал.
Илья: Не… уверен. Пусть меня одно время и влекло… Но все это ложь, ложь! Под стальной кольчугой – страх и нечистая совесть. Она мешает тебе, твоя кольчуга, сними ее. Или ты увязнешь в болоте по уши!
Павел (пьет вино, морщится): Чечевичная похлебка… (Кричит.) Горько, горько! Го…
Люба (кладет ему руку на плечо): Не надо.
Он мгновенно стихает.
Илья: Нет, слишком романтично. Не кольчуга – пустота. Бездонная бочка. Чернота. Притягивающая, всасывающая, проглатывающая… Нет. Просто звон. Дребезжанье деревянной тары… Да! Пустота порожней винной бочки! И кисло–сладкий запах гниения…
Андрей: Ты не заставишь меня биться головой… (Кричит, обернувшись к Любе.) И ты! Никто не заставит меня… Не поймаете… Не пойман – не вор!
Люба (отстраненно): Пойман.
Андрей: Думаете, я… Прикнопили к стенке. А меня – нет. Нет меня!
Илья: Ты просто боишься.
Андрей (тихо): Я тебя – не боюсь. Это ты – гремящая пустопорожняя бочка… Твоя страсть – молотить языком… И не я тебя – ты меня завоевал… до поры до времени, пока я не разобрался, что весь твой талант – талант красиво болтать без смысла, без толку! Что ты сделал? Покажи! Докажи, что ты хоть что–нибудь стоишь!
Пауза
Павел (вертит в руках бутылку): Пусто… Чаю. Я хочу чаю! Кто хочет чаю?!
Илья: Я докажу… В следующий раз я приду к тебе не с пустыми руками!
Андрей (прежним легкомысленным тоном): Друг мой, значит, мы расстаемся… Надолго? Кто знает…
Павел: Все в руцех Бо…
Андрей: Не мели ерунды!
Люба: Перестаньте сейчас же! Перестаньте! Если вы не перестанете, я… (Беспомощно оглядывается, взгляд ее останавливается на горящей свече, она наклоняется – и задувает ее.)
Крики, шум, стук падающего стула. Наконец, свеча вновь вспыхивает. Все стоят.
Люба (смеется – отрывисто и резко): Садитесь. (Все садятся.)
Пауза
Люба: Что ж, напою вас чаем, хоть вы этого не заслуживаете.
Павел (раскачиваясь): Бум, бум, бум…
Илья (вскакивает): Я помогу тебе.
Андрей: Нет, пожалуй, это должен сделать – я.
Люба: Прекрасно. Вы пригодитесь оба.
Убирают и уносят посуду. Хлопает дверь.
Пауза
Павел (глядя на огонек свечи и раскачиваясь): Бум, бум, бум…
X
– Осторожней!
В полумраке вестибюля голова приподнялась и, покачиваясь на вытянутых руках, медленно заскользила вверх.
– Сюда–сюда. Поддержите!
Черный халат метнулся к центру, маленькие руки ухватились за аккуратно вылепленную бородку.
– Щас треснет.
– Где?
– Позади.
– Осторожней!
Голова стукнулась о стену и встала на красный постамент.
– Так. Передвинуть. Левее. Я говорю, левее!
– Чижолый, черт!
– Простите, я хотел бы поговорить с директором школы. Не могли бы вы…
Обернулась, цепко вглядываясь в полутьму.
– Вам что?
– Я по распределению…
– Да–да. Сейчас. Алексей Иванович! – белобрысому толстяку в тренировочном костюме. – Поднимитесь наверх и скажите девочкам, чтоб начинали мыть в столовой… Шлеп–нога!
От стены рядом с постаментом отделилось серое пятно и, равномерно постукивая по полу, двинулось к нам. В тусклом свете окна оно обрело очертания маленького человечка в синей робе с изможденно – испитым лицом и воспаленными глазами. Он смотрел куда–то вбок и шмыгал носом.
– Петя, завтра вставить раму в учительской! И доски… почему доски все еще у входа?! Оттащи их, наконец.
Подумал, сплюнул, выказав изъеденные никотином зубы.
– Куда?
– Ну, тебе лучше знать. В котельную…
– А! Мало платют. Надрываешься тут без толку… Уйду. Уйду отседа, куда глаза глядят!
– Да кто тебя гонит… Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ну, Петя, голубчик…
Махнул рукой; прихрамывая, заковылял по коридору. – Убяру… Сказал – убяру!
Узкая комната. Два портрета на противоположных стенах смотрят – и не видят друг друга. Внимательно изучает протянутую ей бумагу, откладывает, снова берет; наконец, поднимает от стола гладкое лицо с чуть вздернутым носом и маленькими алыми губками. Его можно назвать пустым, если не заметить тяжелый взгляд серых глаз, слегка набрякшие веки и две резкие складки у рта.
– Что делать, что делать? До начала учебного года осталось две недели, а работы невпроворот! Большинство учителей еще в отпуске… Райком обещал прислать шефов из КБ – отлынивают! На Шлеп–ногу, сами видели, полагаться трудно. А я, – усталая улыбка, – всего лишь слабая женщина… Ну да ладно. Не в первый раз.
Губы поджимаются, глаза с холодным любопытством разглядывают пришельца.
– Надеюсь, сработаемся. У нас подобрался прекрасный коллектив… Не без своих сложностей, конечно.
Молчит, ожидая ответной реакции. Не дождавшись, отрывисто и более нервно:
– Из вашего института к нам приходят крайне редко, не балуете вы нас. Да и время сейчас такое: мало кто хочет идти в учителя. Признаться – не понимаю!
– Я тоже не понимаю. Поэтому я – здесь.
– Только не надо записываться в неудачники. Вы – в начале своего жизненного пути, в самом начале… И от удачного старта зависит многое. Надо уметь трезво и точно оценивать обстановку, проявлять разумную инициативу. А там, глядишь, и рост авторитета, и удача… Удача – награда сильным.
– Непременно воспользуюсь вашими советами.
– Это что, ирония?
Цвет глаз густеет, приобретает стальной оттенок.
– Я бы хотела поменьше умствований и побольше дела. Вы должны полностью отдавать отчет в исключительной значимости своей работы. Школа воспитывает, прежде всего, идейную убежденность, классовую непримиримость. Преподавание истории в этом важнейшем, я повторяю, важнейшем деле – наше незаменимое оружие!
– Разумеется. История – опасное оружие и пользоваться им надо с умом.
Откидывается назад, голова в легких кудряшках светлых волос приподнимается над спинкой кресла.
– Будем надеяться, ума у вас хватит.
Я свернул за угол, и сноп солнечного света рванулся к глазам, обжег лицо. Я остановился. Внизу над площадью висело тусклое оранжевое марево, и сквозь дрожащий, накатывающий знойными волнами воздух что–то медленно ползло по кругу, сверкая стальной чешуей; исчезало скользящими щупальцами за деревьями и домами, мерно дышало, гремело, гудело, скрежетало. Надо было сойти вниз по отвесному солнечному лучу, раствориться в пестрых бликах.
– Павел! Привет! Что ты здесь делаешь?
Дробящаяся от света, скользкая глубина глаз. Над верхней губой, запутавшись в черных волосиках, блестят капли пота.
– Здесь рядом моя школа.
– Помню… Илья что–то рассказывал.
Подняв голую руку, убрала прядь волос со лба.
– Ужасная жара. В конце–то августа.
– Как на Синае.
Фыркнула.
– Ты был там?
Тонкие ноздри раздулись, блеснули – и скрылись за алыми губами мелкие ровные зубы.
Стук, стук, стук. Гулко, резко, громко. Тише – она может услышать!
– Значит, из школы…
– Да.
– И как там, в школе?
– Ничего…
Неожиданно резко:
– Что стоять? Давай–ка лучше сядем.
И, не дождавшись ответа, свернула в маленький дворик, где в глубине палисада среди солнечных пятен, пробившихся сквозь плотную зеленую листву, виднелась скамейка.
Села первой, подтянула платье к загорелым коленям.
– Итак, вы с Илюшкой хорошо устроились. Один будет подшивать листочки в папки в каком–то министерстве, другой – набивать пустые головы заведомым враньем. Не понимаю. Неужели ты и впрямь думаешь, что от этого будет хоть какая–то польза? Илюшка – другое дело. Он ни о чем не может думать всерьез. Но ты?!
– Надо же кому – то служить… Кроме того – в аспирантуру меня не приняли.
– Ага! Неблагонадежен… И ты, подчинившись некоему чувству долга, пошел в народ?
– Я никуда не иду! И вообще…
Усмехнулась. Нагнувшись, зачертила тонким прутиком по земле. Я откинулся на спинку скамьи, глаза стремительно метнулись вбок. Я попытался отвести их, но они не послушались: там, совсем близко от меня, прикрытые только узкой полоской ткани, жили два белых, острых, нежных бутона с длинными розовыми пестиками. И если я чуть–чуть передвину голову вправо – я увижу их… Ну же, еще немного! В тусклой жаркой глубине светилось что–то слегка продолговатое и розовое, а на границе белого и розового кучерявился маленький жесткий черный волосок.
Она обернулась ко мне. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Отвела взгляд, с коротким смешком швырнула на землю прутик.
– Разморило?
– Немного.
– Надо идти. Тайное свиданье!
Встала, помедлила.
– Если будет настроение… позвони. Пока!
Исчезла за каменной тумбой ворот.
Дотронулся ладонью до скамьи. Здесь она сидела… Приди в себя, попытайся понять! Уставился в узоры, прочерченные по земле легкими ударами прута. Что же сейчас было с тобой?.. Это–было–в–первый – раз посредине дня. Ночами, во сне, это – мучило тебя, но ты просыпался, и все проходило. А теперь оно вторглось в твой день, заставило дрожать, ты покрылся липким потом и стал гадок самому себе… Но почему же гадок? Разве ты мелкий воришка, стащивший кошелек? Украл, подсмотрел, выведал? Приди в себя, попытайся понять… Что, если она сама, сама все это устроила, разыграла как по нотам? Что, если она предвидела и твой шум в ушах, и озноб… А сейчас, шествуя на свое чертово свиданье, знает (понимаешь ты, знает!) что ты сидишь на скамейке и думаешь о ней, знает, что ты позвонишь и потянешься… Невыносимо! Я никогда этого не сделаю, слышишь ты – никогда! Приди в себе, попытайся понять… Нерешительность, нервозность, словно ее несет куда –то помимо воли. Ни с одной женщиной не было этого, даже с Любой. Забавно. Проведи эксперимент. Раздень – Любу. Вообрази ее всю – грудь, тело, бедра, волосы… Опять, как в первый раз, комочек дурноты подкатывает к горлу – нет, только не это! Тебе противно, тебя тошнит, ты откидываешь голову на спинку скамьи… Из черноты надвигаются два острых белых бутона с розовыми длинными, слегка дрожащими пестиками. Открыл глаза. Сквозь плотную зеленую завесу – клочки ситца, бледно–голубого, выцветшего от жары. Приди в себя, попытайся понять, попытайся понять, попытайся!..


