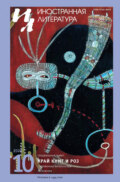Александр Ливергант
Вирджиния Вулф: «моменты бытия»
На некоторое (короткое, впрочем) время Вирджиния увлекается политикой: вместе с Ванессой и Джорджем празднует победу на выборах лейбористов, за которых будет неизменно голосовать и в дальнейшем. Активно участвует в движении за права женщин: бок о бок с молодыми, решительными, фанатичными представительницами прекрасного (но отнюдь не слабого) пола занимается историей феминизма, рассылает письма и даже сидит в президиуме на собраниях – не выступает, правда, ни разу.
Вновь, как это было после нервного срыва, проявилась у нее тяга к путешествиям. В апреле 1909 года Вирджиния едет с Беллами во Флоренцию, чем доставляет Клайву немалое удовольствие, каковое Ванесса, при всей своей любви к Козочке, разделяет едва ли. С Беллами же постоянно наезжает в Париж: сестра с мужем – франкофоны и франкофилы, помешанные на французском, в особенности современном, искусстве. Одно время Беллы даже всерьез подумывали, не переехать ли во Францию; не переехали, но с конца двадцатых годов проводили лето на юге Франции, где купили под Марселем в Кассисе дом. В отличие от сестры, Вирджиния предпочитала родные осины; уговорам Клайва, Роджера Фрая, Литтона Стрэчи, что, мол, «нет в мире лучше края», не поддавалась, да и французский так толком и не выучила: читала свободно, а вот говорила с трудом.
В августе того же 1909 года отправилась с Адрианом и Сидни-Тёрнером в Байройт на вагнеровский фестиваль, где, если верить младшему брату, вид имела подчас прекомичный. Когда, к примеру, часами, доводя бедных баварских продавщиц до слез, выбирала в магазине нужный ей зонтик от солнца: зонтик должен был быть обязательно белым и обязательно с зеленой подкладкой. Или когда, по своему обыкновению, выходила из здания оперы посреди «Парсифаля» или «Лоэнгрина», не дождавшись антракта.
«Выходя из оперы во время действия, вид мы имели, должно быть, довольно нелепый, – писал Ванессе из Германии Адриан, который, как выясняется, был вовсе не лишен чувства юмора. – В одной руке Козочка держала зонтик от солнца, большую кожаную сумку, пачку сигарет, коробку шоколадных конфет и либретто оперы, другой же тщетно пыталась подхватить длинный белый плащ и юбку, которые, как бы высоко она их ни поднимала, полоскались в пыли… Пытаться избавить Козочку от ее покупок было совершенно нереально, ибо, стоило только к ним прикоснуться, как они, одна за другой, падали на землю. Не успели мы найти какую-то безлюдную поляну и сесть, как Вирджиния пустилась в свои самые невероятные фантазии».
О фантазиях следует сказать особо. В эти годы у готической мадонны (такой Вирджиния Вулф запомнилась и нам по многочисленным портретам и фотографиям) появилась и еще одна особенность, выдающая в ней, кстати говоря, будущую писательницу. Умение «додумать», «дописать» характер человека, ей совершенно не известного, по какой-то одной бросающейся в глаза черте. И не только характер, но и поступки и даже обстоятельства жизни. Так, как она это продемонстрировала в заключительном пассаже своего рассказа «Ненаписанный роман», о котором еще будет сказано:
«И всё же последний взгляд на них – они сходят с тротуара, она огибает большое здание следом за ним… Загадочные незнакомцы! Мать и сын. Кто вы такие? Почему идете по улице? Где будете спать сегодня, где завтра?.. Я пускаюсь вслед за ними… Куда б я ни шла, я вижу вас, загадочные незнакомцы, вижу, как вы заворачиваете за угол, матери и сыновья; вы, вы, вы. Я прибавляю шаг, иду следом за вами…»[31]
Или в уже упоминавшемся эссе «Мистер Беннет и миссис Браун», которое родилось из доклада, прочитанного Вирджинией в Кембридже в мае 1924 года на обществе «Еретиков», и которое было опубликовано в июле того же года в журнале Элиота Criterion под названием «Характер в художественном произведении». В этом эссе Вирджиния описывает неизвестных ей соседей по вагону, которых она называет «мистер Смит» и «миссис Браун»:
«По молчанию миссис Браун, по напряженной учтивости, с какой говорил мистер Смит, было очевидно, что он имеет над ней какую-то власть, которой явно тяготится. Речь могла идти о разорении ее сына, или о каком-нибудь печальном эпизоде из ее жизни или из жизни ее дочери. Возможно, она ехала в Лондон подписать какие-то бумаги, касающиеся ее имущества. Очевидно было одно: она находилась во власти мистера Смита…
Я живо представила себе миссис Браун в самых различных ситуациях. Я вообразила ее в доме на морском берегу: вокруг уличные мальчишки, макеты кораблей за стеклом. На камине – медали мужа. Она вбегает и выбегает из комнаты, присаживается на стулья, хватает с тарелок еду, подолгу молча смотрит перед собой… И тут, в эту фантастическую уединенную жизнь, врывается мистер Смит. Вижу, как он внезапно появился, – словно ветром занесло. Колотит в дверь, врывается. Вокруг зонтика в прихожей образуется лужа. Садятся друг против друга переговорить».
Или, много позже, в описании служанки во время одного из путешествий Вулфов по Франции:
«В Карпентрасе вчера вечером мы встретились со служаночкой, у нее были честные глаза, кое-как расчесанные волосы и черный передний зуб. Я почувствовала, что жизнь непременно раздавит ее. Возможно, ей лет восемнадцать; немного больше; плывет по течению, надежд никаких; бедная, не слабая, но управляемая – но еще не настолько управляемая, чтобы не испытывать жгучего, сиюминутного желания путешествовать на машине… Она выйдет замуж? Станет одной из толстух, что сидят в дверях и вяжут? Нет, я предрекаю ей некую трагедию, потому что у нее хватает ума завидовать нам с нашим “ланчестером”»[32].
Как заметила сама Вирджиния в своем эссе «Как читать книги»:
«Нам становится страшно интересно, как живут эти люди… Кто они, что собой представляют? Как их зовут, чем они занимаются, о чем думают, мечтают…»[33]
И, как выразился Квентин Белл:
«У воображения Вирджинии отсутствуют тормоза».
Глава шестая
«Отыскать на дне морском эти жемчужины…»
1
Мы сказали – «будущую писательницу». А между тем начинает Вирджиния писать еще в родительском доме на Гайд-парк-гейт, в уже описанной нами, бывшей «бело-голубой» (белые стены, голубые занавески на окнах) детской на предпоследнем этаже. Там же, где среди разбросанных по столу и по полу книг принимала подруг, читала и занималась с Джанет Кейс греческим и латынью. Пишет стоя, за высоким столом со скошенной столешницей. Работать стоя ей нравилось и тогда, и много лет спустя, – точно так же писала свои картины старшая сестра.
В декабре 1904 года в женском приложении к лондонскому католическому еженедельнику Guardian с разницей в неделю выходят два эссе (оба не закончены) двадцатидвухлетней рецензентки: «Сын королевского Лэнгбрита» и «Хоуорт, ноябрь 1904 года». В первом говорится об одноименной книге известного американского писателя, журналиста, издателя и критика Уильяма Дина Хоуэллса; во втором – о поездке Вирджинии в Хоуорт, на родину горячо ею любимых сестер Бронте. Литературный дебют будущего классика был не столь уж удачен: вскоре после первых двух рецензий Cornhill Magazine забраковал ее статью о письмах Джеймса Босуэлла, да и «Хоуорт» не вызвал у мэтров большого энтузиазма: политик и литератор Р.Б.Холдейн в письме Вайолет Дикинсон отозвался о пробе пера Вирджинии довольно кисло:
«Эти места вызывают у меня огромный интерес. А потому упоминание об этой книге в печати заслуживает добрых слов – автор, однако, мог бы поглубже погрузиться в предмет своего исследования».
Вообще, «путь в критики», поиск «предмета своего исследования» был для Вирджинии Стивен совсем не так прост, и поначалу прокладывала она его с трудом. Как и полагается начинающему критику, она рецензировала всё подряд, тем более что нужны были деньги, а одна рецензия, в зависимости от авторитетности издания, стоила в те годы от трех до пяти (и даже десяти – Times) фунтов стерлингов – сумма вполне приличная. Писала рецензии на книги по истории, на путевые очерки, на романы (как правило, второсортные), на феминистские книги («Женский мотив в художественной литературе»). Писала и эссе, первое время очень короткие и тоже на самые разнообразные темы – об уличных музыкантах, например, или о природе смеха, или об упадке эссеистического жанра. Случались – правда, редко – и задания более ответственные: скажем, отрецензировать для того же Guardian роман Генри Джеймса «Золотая чаша». Бывало, ее труды из редакций газет и журналов возвращали или же сильно сокращали. Из Times Literary Supplement ей вернули эссе о Екатерине Медичи на том основании, что оно «недостаточно академично». А если не возвращали, то правили, и сильно – в основном за резкий тон.
«Рецензируя, получаю огромное удовольствие оттого, что говорю гадости, а ведь приходится быть уважительной», – пишет она в это время Мэдж Воган.
А еще правили и сокращали за высказывание откровенных взглядов на две заповедные темы: секс и религия.
«Миссис Литтлтон (редактор Guardian. – А.Л.) тычет своим толстым большим пальцем в мои изысканные фразы, стремясь исправить допущенные мной моральные изъяны, – жалуется она в письмах Вайолет Дикинсон. – А Cornhill Magazine не желает называть проститутку проституткой, а любовницу любовницей».
Литературным дебютом ни «Сына королевского Лэнгбрита», ни «Хоуорт, ноябрь 1904 года» не назовешь. Вирджиния ведь, как мы знаем, уже много лет пишет в стол – ведет дневник, выпускает домашнюю газету, сочиняет эссе, путевые очерки, комические биографии своих знакомых и родственников – страсть к пародии, стилизации отличала ее «пробы пера» с детских лет. И пробы не только комические: вместе с историком Мейтлендом пишет – на правах не столько опытного биографа, сколько близкого родственника – жизнеописание сэра Лесли Стивена. Пишет, впрочем, – сильно сказано: задача Вирджинии была скромнее, в большей степени секретарская, чем литературная и исследовательская, – отобрать и переписать начисто письма отца, которые считала нужным включить в книгу Мейтленда «Жизнь и эпистолярное наследие сэра Лесли Стивена».
Еще в 1903 году задумывает пьесу, которую так и не сочинит:
«В пьесе выведу мужчину и женщину. Покажу, как они взрослеют; они так никогда и не встретятся, не узна́ют друг друга – однако зрителя не покидает чувство, что с каждой минутой они становятся всё ближе и ближе. Когда же они вот-вот увидятся (их разделяет только дверь), встреча срывается, и больше им уже не встретиться. Пьесу переполняют бесконечные разговоры и излияния чувств».
Пишет в стол, ибо отдает себе отчет в несовершенстве написанного. Со временем, однако, нащупывает свою манеру письма, пытается эту манеру определить:
«Мое единственное оправдание – в том, что я пишу о вещах так, как я их вижу, – замечает она в письме Мэдж Воган. – Я прекрасно сознаю, что мой взгляд на мир очень узок и довольно анемичен… Однако сейчас у меня такое чувство, будто этот зыбкий, призрачный мир, мир без любви, или сердца, или страсти, или секса, – это мир, который мне важен, мне интересен. И хотя тебе он может показаться призрачным, и адекватно выразить его я не в состоянии, для меня он совершенно реален.
Только, пожалуйста, не подумай, что я удовлетворена, что мои взгляды окончательно сформировались. Мне, вместе с тем, кажется, что лучше писать о вещах, которые чувствуешь, чем барахтаться в том, что абсолютно непонятно. Грубая, непростительная ошибка, которую совершают многие писатели, – погрязнуть в чувствах, не понимая их… Вещи, которые я тебе послала, – не более чем эксперимент, и я никогда не стану пытаться выдавать их за законченную работу. Будут лежать в столе до скончания века».
Вирджиния поскромничала: многое из написанного в те годы лежать в столе «до скончания века» не будет. С конца 1904 года ученический период завершен, она печатается далеко не только в Guardian, появляются ее эссе и в Speaker. И в ежемесячном Cornhill Magazine – первом блине, который вышел комом. И, в первую очередь, в авторитетном Times Literary Supplement; в марте 1905 года главный редактор TLS Брус Ричмонд напечатал статью Вирджинии под названием «Литературная география» – и с этого дня будет охотно публиковать статьи и рецензии писательницы до самой ее смерти. Число текстов молодой Вулф, принятых к публикации в ведущем литературном журнале Англии, с каждым годом неудержимо растет. В 1916 году Ричмонд печатает двенадцать ее статей, в 1917-м – уже тридцать две, всего же за десять лет, с 1904-го по 1913 год, в различных периодических изданиях вышло более 150 рецензий, а также несколько рассказов. И почти все за подписью “A.S.” – «Аделаина Стивен».
Печатает статьи и рецензии Вирджинии Аделаины Стивен не только Ричмонд: за свою жизнь Вулф публиковалась едва ли не во всех крупных периодических изданиях Англии и Америки. И в авангардных – вроде Egoist Ричарда Олдингтона, или Criterion Элиота, или English Review Форда Мэдокса Форда, или Atheneum Джона Миддлтона Марри. И в солидных академических, таких, как Nation, Yale Review, New Statesman, Listener, New Republic. И в популярных, «глянцевых», как мы их теперь называем, типа «Вог» или «Космополитен». И всё же Times Literary Supplement всегда оставалось для нее на первом месте. TLS многим обязано Вирджинии Вулф, но и Вирджиния за время своего сотрудничества с ведущим английским критическим журналом прошла отличную школу:
«Своей техникой письма, умением обращаться с формой я обязана тому, что в течение стольких лет писала для Times Literary Supplement. Я научилась быть лаконичной, научилась делать свой материал доступным и интересным, научилась внимательно читать».
Научилась (в сущности, всегда, с детства умела) распоряжаться своим временем, в том числе и временем рабочим – писала, если не заболевала, с утра, всегда в одно и то же время. Знала за собой способность придерживаться, как она выражалась, «автоматической шкалы ценностей»; знала и гордилась этой способностью.
«В общем-то, у меня есть внутренняя автоматическая шкала ценностей, и она решает, как мне лучше распорядиться моим временем. Она диктует: “Эти полчаса надо посвятить русскому языку”. “Это время отдать Вордсворту”. Или: “Пора заштопать коричневые чулки”».
И не научилась быть терпимой к критическим разборам ее собственных сочинений. Пренебрегала известным советом Владимира Набокова, высказанным, впрочем, много позже:
«Равнодушие к нелицеприятной критике – не признак скромности, но для здоровья свойство весьма полезное»[34].
К ее замечаниям в дневнике, что, мол, она абсолютно равнодушна к тому, что про ее книги скажут, едва ли стоит прислушаться и воспринимать эти слова буквально. Это Вирджиния так себя успокаивает, настраивается на «позитивный» лад. Ей все время, не только в начале литературной карьеры, будет казаться, что к ее творчеству относятся недостаточно серьезно, что критики не придают ее книгам должного значения. Не потому ли она так часто говорит и пишет о том, как важна для нее похвала, какое значение она, не уверенная в себе, придает комплиментам? Чем это объясняется? Хрупкой психикой? Или профессиональным комплексом викторианской сочинительницы, воспитанной на необходимости бороться за то, чтобы к тебе и к твоему творчеству относились так же серьезно, как к творчеству представителей сильного пола? Скорее всего, и тем и другим.
По той же причине она никогда не научится спокойно, без ревности относиться к похвалам другим писателям, будет воспринимать их выпадом против себя: как, дескать, можно превозносить Элиота, Литтона Стрэчи или Форстера, когда есть она, Вирджиния Вулф?! Вот что записывает в дневнике Вирджиния 29 декабря 1940 года, за три месяца до смерти:
«Когда Десмонд хвалит “Ист Коукер”[35], вызывая у меня ревность, я хожу по пустоши и повторяю: я есть я и должна вести свою борозду, а не повторять чужую. Это единственное оправдание моей работы, моей жизни»[36].
Некоторые особенности отношения писательницы к своему дарованию, «к себе в искусстве» дают себя знать гораздо раньше. С одной стороны, это непреходящая любовь к своему делу; счастье для нее, как и для Годунова-Чердынцева из «Дара», возможно только «с пером в руке»:
«Осмыслены лишь те человеческие творения, которые доставляют творцу счастье. Мои собственные сочинения так мне нравятся потому, что я люблю писать, и абсолютно равнодушна к тому, что€ про них скажут. Чтобы отыскать на дне морском эти жемчужины, нырять приходится на немыслимую глубину – но они того стоят».
С другой же (а, впрочем, здесь ведь нет противоречия), – откровенное признание того, как тяжело «это дело» ей дается. Однажды, в который раз себя переписывая, Вирджиния в сердцах воскликнула:
«Еще ни одна женщина на свете не относилась к сочинительству с такой ненавистью, как я».
Тяжело дается – из-за крайней к себе придирчивости. Причем ко всему, ей написанному, – и в ранние годы тоже. Хотя рецензии в то время печатались в английской периодической печати, как правило, анонимно, Вирджиния переписывает свои критические тексты (а впоследствии и художественные) по многу раз – в том числе и те, которые уже вышли из печати.
«Буквально каждую газетную статью Вирджиния Вулф переписывала многократно», – подтверждает в предисловии к ее посмертному сборнику «Смерть ночной бабочки и другие эссе» Леонард Вулф.
И каждый следующий вариант ей нравится немногим больше предыдущего. А если и нравится сегодня, то завтра может показаться пустым и надуманным:
«Все утро писала с невероятным удовольствием, что странно, ведь я всякую минуту знаю: быть довольным тем, что пишу, у меня нет никаких оснований, и через шесть недель, а может, и дней возненавижу написанное… Все в один голос будут меня уверять, что ничего лучше они никогда не читали, а за глаза – ругать, и правильно делать».
И подобных записей, как мы еще увидим, в дневнике много; каждая книга, над которой она работала или которую, еще не начав писать, обдумывала, доставляла ей огромное удовольствие – и в то же время стоила неимоверных усилий: «нырять за жемчужинами» и в самом деле приходилось на «немыслимую глубину». И, развивая эту метафору, – не только «нырять», но и «выныривать». Начинающий литератор, Вирджиния обращается за советом к людям, чьим мнением дорожит, прежде всего – к Вайолет Дикинсон, Литтону Стрэчи, Клайву Беллу. К Беллу – чаще остальных; сохранились такие, например, «просительные» письма к нему еще молодой писательницы:
«Мой дорогой Клайв, ты сочтешь меня большой занудой, если… я попрошу тебя высказаться о моем злополучном творении? У меня сейчас такое чувство, будто всё это ошибка; скажи, так ли это. Как бы то ни было, я тебе полностью доверяю; очень надеюсь, что еще не надоела тебе своими просьбами, и ты скажешь мне всю правду…»
Это впоследствии она ни под каким видом никому (даже мужу) не станет показывать написанное, пока не поставит, как она выражалась, «жирную точку».
«Я ужасная эгоистка в отношении своих сочинений, – напишет она в сентябре 1924 года своему приятелю, жившему в Англии французскому художнику Жаку Равера. – Когда пишу, практически ни о чем больше не думаю, и то ли из самомнения, то ли из робости, чувствительности, – называйте, как хотите, – никогда о том, что пишу, не говорю. Не говорю до тех пор, пока кто-нибудь не извлечет из меня этой мистерии раскаленными щипцами».
2
Переписала, причем с начала до конца и не меньше семи раз (а последние главы, по словам Леонарда Вулфа, – не меньше десяти раз), «отыскивая на дне морском эти жемчужины», и свой первый роман. Первоначально, когда Вирджиния еще только приступила к работе (октябрь 1907 года), она назвала его «Мелимброзия», а затем – «По морю прочь» (“The Voyage Out”), и проработала над ним в общей сложности больше шести лет. Это его в письме Беллу она называет «злополучным творением». Тем не менее, «злополучное творение» заслужило немало похвал – и, прежде всего, за связность, логичность повествования; ни того, ни другого у зрелой Вулф не будет. А также, как сказано в рецензии на роман, напечатанной в Observer: «за постоянное стремление сказать не то, что от тебя ожидают, а то, что есть на самом деле».
Критических замечаний тоже хватало. Говорили, что роман – его в 1915 году выпустит небольшое лондонское издательство, владельцем которого был сводный брат Вирджинии, но не Джордж, а Джеральд Дакуорт, – вполне традиционен. Что тема любви и смерти – а именно так критики единодушно восприняли путешествие героини в Южную Америку, где она влюбляется и умирает, – прямо скажем, не нова. Что «По морю прочь» – это не более чем очередной роман воспитания; в процессе повествования героиня перерождается: уехала одним человеком, а вернулась бы (если б не умерла от таинственной инфекции) совсем другим.
Блумсберийцы же этот первый крупный литературный опыт писательницы почти единодушно одобрили. Литтон Стрэчи назвал роман «совершенно не викторианским» – уж ему-то, казалось бы, и карты в руки. Главное же, блумсберийцы увидели в книге то, что хотели увидеть (и то, что, как мы уже знаем, больше всего ценили в искусстве): преобладание духовного начала над материальным, повышенный интерес к передаче чувств, к психологическому рисунку и «пониженный» – к интриге, сюжетной динамике. Увидели и самих себя: воспользовавшись опытом четверговых споров, Вирджиния ярко, наглядно и довольно ядовито вывела в романе типичного блумсберийца – интеллектуала-правдоискателя Сент-Джона Хёрста.
И всё же: традиционен роман или нет? Когда читаешь дебютную книгу большого писателя, поневоле всматриваешься в текст в поисках первых, быть может, еще робких признаков будущего величия. В этом смысле мы, сегодняшние читатели, находимся в положении более выгодном, ведь современики безвестного на тот момент автора, да и сам автор, в отличие от нас, не подозревали, кем этому автору суждено стать, и этих «фамильных признаков» не замечали, не могли заметить.
Начинаешь читать «По морю прочь», и фамильных признаков экспериментальной прозы Вирджинии Вулф, автора «На маяк» и «Волны», действительно не замечаешь. Первое впечатление: перед нами традиционная комедия нравов. Повествование многословное, неторопливое, плавание в Южную Америку главных героев, Хелен и Ридли Эмброуз и их племянницы Рэчел, дочери судоходного магната Уиллоби Винрэса, растягивается не меньше чем на сто страниц. Протагонист, двадцатисемилетний начинающий писатель Теренс Хьюит «с большими глазами, загороженными очками»[37], первый раз появится только на двухсотой. Читателю предлагается погрузиться в пространные описания природы, увлечься лирическими и историческими отступлениями: в книге дается подробный экскурс в историю вымышленного бразильского городка Санта-Марина, куда направляются персонажи романа. Предлагается посмеяться над «старым кузнечиком в очках» Уильямом Пеппером, который «перелагал персидские стихи на английскую прозу и английскую прозу – на греческие ямбы», а также над типично диккенсовской толстухой миссис Чейли и над начинающим писателем, тщеславным снобом, назвавшим свой первый роман «Молчание, или То, о чем не говорят». Подобные карикатуры – тоже ведь неотъемлемая черта давней английской литературной традиции.
Пока пароход неспешно бороздит просторы Атлантического океана, герои старого доброго английского романа-беседы (действие которого, правда, чаще происходит не на корабле, а на уик-энде в загородном поместье) услаждают себя интеллектуальными разговорами о Вагнере и Шекспире, играют на фортепиано, между приступами морской болезни флиртуют – впрочем, строго в рамках приличий. Читают Ибсена: «Какая правда стоит за всем этим?» – раздумывает склонная к философским раздумьям Рэчел. Спорят о всеобщем избирательном праве: «Мужчины и женщины слишком отличаются друг от друга…» Тема для тех лет актуальная, для феминистки Вирджинии Стивен – особенно. И, конечно же, неустанно размышляют о жизни, о человеческих отношениях: «Как же эфемерны узы, которые возникают между людьми…»
Присоединяется к их беседам и спорам путешествующая вместе с ними чета Дэллоуэй; пройдет еще десяток лет, и член Парламента Ричард Дэллоуэй и его жена Кларисса, уже в качестве главных героев, а не статистов, появятся в четвертом и, должно быть, самом читаемом романе Вулф, он так и будет называться – «Миссис Дэллоуэй».
Постепенно, однако, замечаешь, что автор «По морю прочь» всё же отличается от своих собратьев по перу «лица не общим выраженьем». Например, любовью к развернутой метафоре; любовью, присущей скорее поэту, чем прозаику. Метафоре, требующей от читателя, тем более от автора, недюжинного воображения. Сказал же про нее Белл: «У воображения Вирджинии отсутствуют тормоза». С палубы «Евфросины» удаляющийся город кажется похожим на «трусливо припавшего к земле, сидящего на корточках скрягу». Сама же «Евфросина» напоминает «широкозадую ломовую лошадь, на чьем крупе могут танцевать клоуны».
Теккерею, Джордж Элиот, даже Диккенсу с его богатейшей фантазией вряд ли пришло бы в голову сравнивать пароход с ломовой лошадью. Автомобили похожи у Вулф на сверхъестественных пауков, Уэст-Энд – на «маленькую золотую кисть на краешке огромного черного плаща», книжный червь Пеппер, у которого, по остроумному замечанию Рэчел, «вместо сердца старый башмак», – на «перекошенное ураганом деревце», а в другом месте – на «подвижную и проказливую старую обезьянку». Надо быть поэтом, чтобы увидеть сходство между деревцем, старой обезьяной и неугомонным стариком, «специалистом по нумизматике и по чему-то еще, кажется, по движению транспорта».
«По морю прочь» отличается не только метафоричностью, но еще и зоркой наблюдательностью, интересом к детали, к значимым мелочам, оттеняющим особенности характера действующих лиц.
«В ее глазах ничего нельзя было рассмотреть, как в темной воде», – замечает Вулф про свою героиню, желая с первых же страниц внушить читателю, что Рэчел отрешена от жизни, что она – вещь в себе.
Прекраснодушная представительница высшего лондонского света, миссис Дэллоуэй даже пишет, «словно ласкает бумагу пером… словно гладит и нежно щекочет ребенка».
Ученому-классику Ридли Эмброузу, полагавшему, что тому, кто читает по-гречески, не стоит читать ничего больше, судовладелец Уиллоби Винрэс глубоко не интересен. Он протягивает ему «вялую руку с таким видом, будто их встреча должна была нагнать тоску на них обоих…»
Безразлична к людям и его жена Хелен, ей, как и Вирджинии, достаточно одного взгляда на человека, чтобы суметь вообразить себе его характер, обстоятельства его жизни: «Она умела читать обличья людей». Умела, но не считала нужным; на мир она смотрит свысока: «Каждое прикосновение сновавших мимо людей словно причиняло ей страдание», и люди эти, подмечает автор, по сравнению с ней, высокой и статной красавицей, «кажутся нервными и маленькими».
Отличается дебютный роман, наконец, и откровенным пренебрежением законами времени и жанра. В финале Вулф разрушает союз влюбленных и уже помолвленных Рэчел и Хьюита, посягает на святая святых викторианского романа – хеппи-энд. Разрушает нежданной, неизвестно откуда взявшейся (deus ex machina?) смертельной болезнью, которой заболевает Рэчел. Болезнью, кстати сказать, списанной с психических срывов самой Вирджинии: «полностью отрезана от остального мира… осталась наедине со своим телом…»
Писала с себя Вулф не только болезнь Рэчел, но и ее саму. Героиня, как это часто бывает, во многом похожа на свою создательницу: молода, но отгорожена от всего мира, считает себя убогой и уродливой, отличается «душевными перепадами… долгими мучительными раздумьями», взбалмошностью, непредсказуемостью. «Меняет взгляды на жизнь почти каждый день!» – не без раздражения говорит про племянницу Хелен Эмброуз.
Болезнь Рэчел неожиданна, но не случайна: смерть героини разрушает союз двух не похожих друг на друга людей, которые, поженись они, едва ли были бы счастливы. Рэчел видит свою жизнь, себя, как «жалкое, прижатое к земле… создание»; для того, кстати, она и ехала в Новый свет – в родных пенатах себя ведь не увидишь. Потому словосочетание «новый свет» в романе двусмысленно: это и новые земли, и новый взгляд на вещи: «В этом новом свете она впервые увидела…»
Хьюит, напротив, честолюбив и самолюбив, однажды обмолвился, что пишет ничуть не хуже Теккерея. Для Рэчел главное в жизни – музыка: «Ты только сравни слова с музыкальными звуками!» Для Хьюита – поэзия, литература, причем такая, чтобы не было «душераздирающих описаний жизни», как у Ибсена: «Читай стихи, а не дряхлые проблемные пьесы!»
Рэчел – особа мятущаяся, но способная на глубокое чувство, Хьюит же – сластолюбец, человек настроения; как и многие мужчины, он быстро увлекается и так же быстро остывает; у постели умирающей он ловит себя на том, что испытывает «ощущение величайшего покоя». И в этом отношении он похож на еще большего себялюбца, своего приятеля, уже упоминавшегося нарцисса-интеллектуала Хёрста; положив голову на каминную решетку, Хёрст может часами рассуждать о философии, о Боге, «о разбитых сердцах своих друзей», которые занимают его куда меньше, чем сердце его собственное…
И всё же Теренса Хьюита трудно заподозрить в бессердечии – в этом случае финал романа был бы слишком тривиален, стал бы оборотной стороной хеппи-энда. Хьюит «пришел к полной определенности и успокоению» не столько от равнодушия и легкомыслия, сколько от чувства, что смертельная болезнь Рэчел явилась, в сущности, актом справедливости. Ведь в их с Рэчел счастье «всегда было что-то несовершенное… им всегда хотелось еще чего-то недоступного для них…» От понимания того, что благодаря смерти любимой женщины «они достигли того, к чему всегда стремились, – союза, который был невозможен, пока они жили…»
Мы говорим про покойника: «Всех освободил». Вот и Рэчел, умерев, освободила и себя и Хьюита от совместной жизни, которая ничего хорошего им не сулила. «Я сохраню твою свободу… мы будем свободны вместе…» – обещает невесте Хьюит, имея в виду, в действительности, не свободу Рэчел, а свободу от Рэчел. Так в первом, еще вполне традиционном романе, Вулф демонстрирует «дар проникновения в глубину простых вещей». Касается темы, к которой не раз будет возвращаться, – «смерть как избавление».
Возвращаться не только в творчестве, но и в жизни.
Работая над книгой, Вирджиния пребывает в межеумочном состоянии: с одной стороны, она, как мы убедились, ставит перед собой как перед писателем весьма серьезные, ответственные задачи – вплоть до реформирования современной прозы; с другой же, вынуждена признать, что задачам этим пока не соответствует. Вот что она пишет 30 августа 1908 года Клайву Беллу: