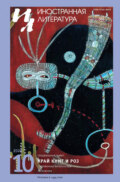Александр Ливергант
Вирджиния Вулф: «моменты бытия»
Весь год дети, и не только младшие, ждали той минуты, когда от платформы Паддингтонского вокзала в 10:15 утра отойдет корнуоллский экспресс «Паддингтон – Бристоль», и можно будет, смакуя шоколадку «Фрай» и листая любимый журнал «Лакомства», раздумывать о предстоящей жизни «на воле». Даже «книжный червь» Вирджиния – читаем в «Заметках о детстве Вирджинии», воспоминаниях старшей сестры о младшей, – отдавала в Сент-Айвз должное плаванию, катанию на лодке, возне с братом Тоби на лужайке перед домом и крикету, в котором, говорят, весьма преуспела. Вместе с другими детьми увлеченно ловила бабочек, устраивала пышные похороны птицам и полевым мышам, играла на бильярде, фотографировала, ловила рыбу, резвилась с большим косматым скайтерьером, на день рождения Тоби запускала фейерверки. И по вечерам, когда взрослые ужинали, вместе с братьями и сестрами, чья комната находилась аккурат над кухней, опускала вниз на веревке пустую корзину – в тщетной надежде, что кухарка положит в нее что-то из недоеденного взрослыми. Лучшим способом избавиться от вечно голодных детей было веревку отрезать, к чему расторопная кухарка иной раз прибегала, вызывая громкий смех в столовой и возмущенные крики наверху в детской.
А еще любила слушать волны:
«Детская в Сент-Айвз, кроватка за желтой шторой – ты лежишь, то ли спишь, то ли бодрствуешь – и слышишь, как волны набатом – раз-два, раз-два, а потом брызги дробью вдоль берега, и потом снова удар – раз-два, раз-два. Слышно, как ветер надувает желтую штору, и та колышется, таща за собой по полу небольшое грузило в виде желудя. Невообразимый, чистейший восторг: лежать, слушать волну, видеть свет, знать про себя, что это почти невероятно – быть здесь»[5].
Или, перед сном, – рассказывать Нессе, сидевшей в обнимку с мартышкой Жако, выдуманные истории про семейство Дилков, соседей Стивенов по Гайд-парк-гейт, и про их хитроумную гувернантку мисс Розальбу.
Или – пускать кораблики в пруду. Вирджиния потом вспоминала, каким значительным событием стало для нее то, что ее корнуоллский парусник, благополучно доплыв до середины пруда, внезапно, у нее на глазах, перевернулся и камнем пошел под воду… Больше же всего ей нравилось наблюдать за проходящими на горизонте кораблями и светившимся вдалеке маяком Годреви.
«Воскресным утром, – читаем в «Новостях Гайд-парк-гейт» от 12 сентября 1892 года, – мистер Хилари Хант и мистер Бейзил Смит пришли в Талланд-хаус и позвали мистера Тоби и мисс Вирджинию Стивен сопровождать их на маяк, ибо лодочник Фримен сказал, что дует отличный попутный ветер. Что же до мистера Адриана Стивена, то он был крайне разочарован тем, что ехать ему не разрешили».
А спустя тридцать пять лет про тот же маяк Годреви Вирджиния Вулф напишет совсем иначе:
«Маяк тогда был серебристой смутной башней с желтым глазом, который внезапно и нежно открывался по вечерам»[6].
Тогда? Когда еще была жива миссис Рэмзи – свою героиню Вирджиния Вулф писала с покойной матери.
Глава вторая
Гайд-парк-гейт 22: Горести
1
Джулия Дакуорт-Стивен, как и миссис Рэмзи, ушла из жизни рано, почти на десять лет раньше мужа, и ее смерть знаменовала собой конец светлой, безмятежной полосы в жизни Стивенов. Джулия была центром семьи (и вселенной), ее все – и муж, и дети, и прислуга – любили, от нее все зависели, на нее все полагались. Ради «терпимости и любви в доме, ради того, чтобы все в доме ощущали себя в безопасности»[7], Джулия, как и мать Клариссы Дэллоуэй из самого известного романа Вирджинии, была готова на всё. И ее смерть нанесла Стивенам тяжкий удар – главе семьи в первую очередь.
С терпимостью и любовью в доме Стивенов было покончено. Сэр Лесли, как это часто бывает с далекими от жизни, витающими в эмпиреях мудрецами, «туманно-эфирными символистами»[8], был выбит из колеи, потерял опору существования – еще бы: Джулия жила главным образом ради своего мужа. Лишился, если так можно выразиться, доверия к жизни; после смерти жены писал в рассчитанной на своих детей «Книге памяти», в буквальном переводе – в «Мавзолейной книге» (“Mausoleum Book”), что «инстинктивному знанию жены можно было доверять гораздо больше, чем моим рационалистическим рассуждениям».
Рационалистом, впрочем, сэр Стивен был разве что на бумаге, но никак не в жизни. С ним, человеком вспыльчивым, деспотичным, требовательным, и в то же время нерешительным и во всем сомневающимся, всегда было непросто. Он и в молодые-то годы был нервным, замкнутым, чувствительным, «маменькиным сынком» (не в пример своему старшему брату, судье и журналисту, баронету Джеймсу Фитцджеймсу, прозванному в Кембридже «британским львом» – за бурный нрав и готовность в пылу спора пустить в ход кулаки). Он и при жизни заботливой жены, случалось, перетрудившись, терял вдруг сознание; а также страдал бессонницей, и, когда наконец засыпал, внезапно пробуждался от «приступов ужаса», как он именовал свои ночные кошмары.
Теперь же, в свои шестьдесят три года, сэр Лесли в одночасье превратился в капризного, взбалмошного, всем и всеми недовольного, дряхлого, глухого старика. Очень напоминающего «сварливого, шаркающего старикана» Джастина Парри, отца Клариссы Дэллоуэй. Трудоголик от природы, он почти совсем перестает работать и к себе в кабинет поднимается теперь крайне редко. При этом, верный давним домашним обычаям, читает, хрипя и задыхаясь, уже выросшим детям вслух. Вслух и с выражением. Читает – в который уж раз – своего любимого Мильтона: «Оду в день Рождества Христова». И, когда ему кажется, что дочери слушают недостаточно внимательно, впадает в неистовую злобу и чтение прерывает.
Читает вслух и пишет письма – чаще всего старшему сыну в Кембридж. От Тоби в это время он очень зависит – и психологически, и эмоционально. Вот последние несколько фраз одной из таких записок, где старик, по обыкновению, жалуется сыну на жизнь и клянется в неизменной отеческой любви:
«Пиши мне завтра же, дорогой… Не могу передать, как я дорожу тобой, как тревожусь за тебя, почти так же, как твоя незабвенная мать… На прошлой неделе от тебя не было ни строчки! Прощай же, твой любящий, но, увы, слабый, очень слабый отец».
Часами сидит молча, погруженный в тоску, или же скрипит от ярости зубами, стенает, рыдает, зовет смерть. Его стенания раздаются по всему дому; однажды вечером домочадцы услышали, как старик, с трудом взбираясь по лестнице к себе в спальню, громко сетует – нет, не о потере жены, своем одиночестве и болезнях, а о том, что у него перестала расти борода: «Ну почему, почему у меня не растет борода?!» Всем недоволен, на всё жалуется и всего боится. Боится – по крайней мере, на словах – нищеты, ему и его детям, конечно же, не грозившей: после смерти он оставит 15000 фунтов – сумма по тем временам огромная. Беспокоится по любому поводу, беспокоится и экономит. (Как тут не вспомнить Плюшкина: «…стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее».)
И считает – и не без оснований, – что исписался. Что его все забыли. Те же немногие, кто его еще помнил, старались навещать сэра Лесли пореже: ему ничего не стоило, к примеру, в присутствии посетителя задаться не слишком вежливым вопросом: «И когда же он, наконец, уйдет?» или же свистящим шепотом заявить напрямую излишне разговорчивому собеседнику: «Какой же вы все-таки зануда, голубчик!»
Требует от домочадцев покорности, вымещает на них свое раздражение, особенно на неполноценной Лауре, с которой, когда она ненадолго возвращалась из приюта домой, бывал особенно груб и даже давал волю рукам.
Вирджиния вспоминала, как отец говорил Ванессе: «Если я грущу, и ты должна грустить; если сержусь, тебе следует рыдать».
Устраивает скандалы, изводит детей истериками и жалобами на жизнь, на свою незавидную судьбу «несчастного, обездоленного вдовца». И дочерей изводит в первую очередь; с ними, как типичному викторианцу и полагается, он не церемонится. Мужчины – другое дело: с сыновьями, а также с немногими оставшимися друзьями и знакомыми он по-прежнему держится в рамках, неизменно вежлив и кроток.
Больше же всего доставалось от него Стелле. Она безропотно заняла в семье место покойной матери, взвалила на себя тяжкий груз забот по дому, по уходу за сводными братьями и сестрами, прежде всего за Вирджинией и Адрианом, которого надо было утром возить в школу, а днем забирать домой. К строптивому, обессилившему отчиму относилась как к родному отцу. Даже выйдя замуж за подающего надежды юриста и будущего политика Джона Уоллера Хиллза – которому, к слову, дважды, прежде чем дать согласие, отказывала, не желая покидать осиротевших Стивенов, – она поселилась с мужем по соседству и продолжала заботиться о сэре Лесли. Утешала его, все вечера просиживала с ним в кабинете, прилежно выслушивала его угрызения совести («Она умерла из-за меня!»), ламентации («Мое счастье теперь мало кого интересует» – прозрачный намек на то, что Стелла поспешила выйти замуж), обустраивала его быт. По первому сигналу бросалась к нему помочь со слуховой трубкой, подставляла стул, когда старик садился к столу, помогала спуститься с лестницы, подсаживала в наемный экипаж, поддерживала разговор, расспрашивала о здоровье, которое большей частью было «ни к черту». И, пережив мать всего на два года, в июле 1897-го, спустя три месяца после свадьбы, попала в больницу с перитонитом и умерла беременной на операционном столе, чем, понятно, еще больше осложнила ситуацию в семье.
«Вскоре после смерти Стеллы, – вспоминает Вирджиния Вулф в «Зарисовке прошлого», – наша жизнь превратилась в борьбу за собственное жизненное пространство. Мы все время что-то отвоевывали: свободу от чужого вмешательства, открытое обсуждение вопросов, равные права».
Уточним: под «чужим вмешательством» имелось в виду, конечно же, вмешательство сэра Лесли.
«Главным камнем преткновения мы считали отца».
Обязанности Стеллы перешли теперь к Ванессе. И их отношения с отцом в оставшиеся семь лет его жизни (сэр Лесли умрет от рака в 1904 году) с каждым днем становились всё хуже, напряженнее. В отличие от покойной Стеллы – мягкой, податливой, кроткой, – Ванесса, девушка с сильным характером, к тому же упрямая и злопамятная, не шла на поводу у самодура-отца, по любому поводу впадавшего в тревогу, которая, как правило, сопровождалась неконтролируемыми вспышками гнева, даже бешенства. В этих вспышках, вспоминала Вирджиния, «прорывалась какая-то зловещая, слепая, животная, первобытная сила».
«Он не ведал, что творил, – продолжает она. – Объяснения не помогали. Он страдал. Страдали мы. О взаимопонимании не было и речи. Ванесса держала глухую оборону. Он бесился… Главная буря обычно разражалась в среду. В этот день отцу показывали бухгалтерскую книгу, где были отмечены семейные расходы за неделю. Если они превышали одиннадцать фунтов, ленч превращался в пытку. Как сейчас помню, кладут перед ним отчет: стоит гробовая тишина, он надевает очки, пробегает глазами цифры – и как стукнет кулаком по столу! Как зарычит! Лицо багровое, вена на виске дергается. Бьет себя в грудь, ревет: “Вы меня разорили!” В общем, целый спектакль, рассчитанный на то, что зрители проникнутся жалостью к несчастному, отчаявшемуся родителю. Он разорен, он при смерти… Ванесса и Софи доконали его своей бездумной расточительностью. “Стоишь как истукан! Разве тебе меня не жалко? Хоть бы слово отцу сказала!”, и всё в том же духе. Ванесса стоит, не проронив ни слова. Как он ее только не пугает – в Ниагару бросится, и прочее. Она все молчит. Тогда в ход идет другая тактика. Тяжело вздохнув, он тянется дрожащей рукой к перу, берет ручку трясущимися пальцами и выписывает чек. Не глядя, усталым жестом бросает его Ванессе. Гроссбух и ручку уносят под аккомпанемент стенаний и вздохов. Он опускается в кресло и замирает, опустив голову на грудь. Спустя какое-то время замечает книгу, поднимает глаза и говорит жалобно: “Джиния, ты не занята? Ты мне не почитаешь?” Внутри у меня всё кипит, а сказать ничего не могу – в жизни не испытывала подобной фрустрации»[9].
«Джиния» не скрывает своего раздражения, «фрустрации», как она выражается. Она убеждена, что отец ведет себя непростительно.
«Мы были ему не детьми, а внуками, – напишет она в автобиографической книге «Моменты бытия». – Даже сейчас, спустя столько лет, мне нечего сказать в его оправдание: он вел себя жестоко. С таким же успехом он мог бы пустить в дело кнут вместо слов».
И всё же Вирджиния, в отличие от сестры, которая решительно отказывалась играть двойную роль рабыни и ангела-утешительницы, до самого конца сохранила с отцом, насколько это было в ее силах, сносные отношения. Спустя годы она напишет, что испытывала к отцу «безмерную нежность и столь же неистовую ненависть». Жалела его, старалась не замечать его слабостей, утешала себя тем, что сэр Лесли и сам до конца не сознает, какой он деспот:
«Скажи ему кто-нибудь прямо: “Вы – тиран! Перестаньте третировать девушку!” – и он пришел бы в ужас».
Как и ее героиня Кларисса Дэллоуэй, была с отцом заботлива, прощала ему скандалы, постоянные нравоучения и бурные всплески эмоций. И служила своеобразным громоотводом в конфликтах между сэром Лесли и старшей сестрой, не раз вставала на сторону отца, да и тот, в свою очередь, испытывал к Джинии особую нежность.
«Джиния, – писал он в «Книге памяти», – по-прежнему добра ко мне, она – мое утешение… Умеет быть совершенно обворожительной».
«Каждая женщина гордится отцом», – заметил Питер Уолш, друг детства и воздыхатель Клариссы Дэллоуэй. Вот и Вирджиния гордилась сэром Лесли. И как видным критиком, литературоведом, специалистом по xviii веку – это благодаря сэру Стивену, истинному просветителю, автору знаменитой книги «Английская литература и общество в xviii веке», она на всю жизнь полюбит эпоху Просвещения, Свифта, Дефо, доктора Джонсона, Стерна. И как редактором весьма авторитетного Cornhill Magazine, участвовавшим в становлении крупных писателей конца викторианской эры: Гарди, Стивенсона, Генри Джеймса. Она постоянно – и после смерти сэра Лесли тоже – перечитывает его книги, многое помнит чуть ли не наизусть. В эссе «Лесли Стивен: философ в домашней обстановке. Воспоминания дочери» отдает отцу должное, пишет, сколь многим, в первую очередь культурным кругозором, она отцу обязана.
«С удовольствием просматривала книгу отца про Поупа, – читаем в ее дневнике от 25 января 1915 года. – Очень остроумно, живо, ни одной мертвой фразы».
Есть, однако, и такая, гораздо более поздняя, дневниковая запись (Вирджинии Вулф в это время уже сорок шесть):
«День рождения отца. Сегодня ему бы исполнилось девяносто шесть… Но, слава богу, этого не произошло. Его жизнь перечеркнула бы мою. И что бы было? Я бы ничего не написала, не выпустила ни одной книги. Непостижимо! Не проходило и дня, чтобы я не думала о нем и о матери…»
О матери – особенно. Вирджинии (когда Джулия умерла, ей было тринадцать) мать запомнилась красивой, серьезной, молчаливой, большей частью погруженной в себя и в свои хлопоты – весь дом на ней! Не оттого ли всегда усталой и печальной? Запомнилась внятным, громким голосом, быстрой, деловой походкой, пронзительным взглядом, непринужденными манерами. А еще заливистым, заразительным смехом (Вирджиния, говорят, смеялась точно так же) и привычкой нервно потирать руки.
«Образ матери преследовал меня как наваждение. Я слышала ее голос, она мерещилась мне, я мысленно разговаривала с ней между делом, представляя, как она поступила бы в том или другом случае. Словом, она была для меня одним из тех невидимых собеседников, присутствие которых в жизни каждого человека играет огромную роль»[10].
2
Ее смерть явилась для Вирджинии «величайшей катастрофой, какая только могла произойти». И привела к тяжелому нервному срыву – первому в череде многих. Эти приступы, или срывы, или, как их еще называют, психические кризисы, и сильные и слабые, протекали примерно одинаково. Сперва – учащенный пульс, так, словно Вирджиния чем-то очень взволнована, повышенная температура, сильное возбуждение. Потом – то, что она впоследствии назовет «эти ужасные голоса»: они будут долго и неустанно звучать у нее в ушах. Одновременно с этим – страх людей; он был и в детстве, о чем мы уже писали, теперь же Вирджиния испытывала ужас, встречаясь даже с хорошими знакомыми, густо краснела, если с ней заговаривали, не могла себя заставить посмотреть в глаза собеседнику. И страх улицы: она никак не может забыть, как на ее глазах под омнибус попала девочка на велосипеде, а ведь произошло это несколько лет назад. Эти страхи сменялись подавленностью и непреходящим, мучительным чувством вины.
После смерти отца – а умирал сэр Лесли долго и мучительно – приступ повторился, но был намного сильнее и длительнее, чем за девять лет до этого. Со смертью отца Вирджиния еще раз пережила смерть матери – и эти две невосполнимые потери соединились, слились в ее сознании, усилили одна другую, заставили ее по многу раз мысленно возвращаться в свое безмятежно счастливое детство. Вот что она запишет в дневнике много позже, за два с половиной месяца до собственной смерти:
«До чего же красивыми были мои старики – я говорю о папе и маме, – до чего простыми, до чего чистыми, до чего прямыми. Я погрузилась в старые письма и отцовские воспоминания. Он любил ее: ох, каким же он был искренним и разумным. У него был утонченный и изысканный ум, ясный, здравый ум образованного человека. Их жизнь встает передо мной спокойной и веселой; никакой грязи, никаких омутов. И так человечно – с детьми, и легким притворством, и детскими песенками»[11].
Второй приступ начался, как и первый, с сильного возбуждения, сопровождавшегося и на этот раз страхами, чувством одиночества, мучительными головными болями, а также видениями и тяжкими, как и после смерти матери, угрызениями совести: отец умер из-за меня, это я явилась причиной его смерти. Я не жалела его, не говорила ему, как люблю его и высоко ставлю:
«Самое ужасное, – записывает она в дневнике, – что все эти годы я никогда не заботилась о нем так, как должно. Он часто бывал очень одинок, и я ни разу не пришла ему на помощь, а ведь могла бы. И от этого мне теперь так плохо. Останься он в живых, мы могли бы быть такими счастливыми. Но чего нет, того нет… У меня странное чувство, будто живу с ним каждый день».
Порой ей казалось, что она слышит его голос. Снилось, что отец жив, что, возвратившись домой с прогулки, она застает его дома, он такой же добрый, отзывчивый и умный, каким был в прошлом. Умный и блестящий. Ведь не всегда же сэр Лесли был вздорным, немощным стариком; было время, когда он смотрелся щеголем, выходил в свет, был общителен, даже галантен. Знал себе цену и в то же время мог в минуту откровенности признаться дочерям (вполне возможно, впрочем, слегка кокетничая), что «мозги у меня хорошие, крепкие, но второго класса», или что в истории английской мысли ХIХ века он если и останется, то разве что в сносках…
Вирджинии не помогали ни лекарства, ни «перемена мест»; весной 1904 года, через три месяца после смерти отца, Стивены всем семейством отправились в Италию, где Вирджиния раньше никогда не была. Но не помогла и Италия: Ванесса наслаждалась картинными галереями Венеции и Флоренции, а Вирджиния досадовала, что поехала, ее всё раздражало:
«Слишком много немцев, вокруг гостиницы толпятся какие-то странные гномы в женском обличье, похожие на дьявольские существа, выступающие из мрака на свет. Да и гостиница чем-то напоминает черную пещеру… Наше путешествие оказалось совсем не таким лучезарным, каким мы его себе представляли. Не было еще на свете нации более отвратительной, отвратительны и их железные дороги, и улицы, и магазины, и нищие, и их обычаи», – пишет она 25 апреля 1904 года.
«Виноваты», конечно же, были не немцы, которых «слишком много», и не «отвратительные» итальянцы, а тоска по дому, по умершему отцу.
«О моя Вайолет, – писала подруге из Италии Вирджиния. – Мне так не хватает отца!»
На обратном пути произошло ухудшение. По возвращении в Англию к Вирджинии были приставлены сразу три медсестры, и все три представлялись ей воплощением вселенского зла; Вирджиния яростно сопротивлялась всем попыткам ее накормить – как бы не отравили. Когда же ее почти силой отвезли за город, она однажды попыталась выброситься из окна; суицидальными намерениями сопровождались и все последующие приступы. Вирджиния целые дни проводит в постели, и ей мнится, вспоминала она впоследствии, будто птицы за окном щебечут хором по-древнегречески, а в кустах, среди азалий, спрятался и сквернословит король Эдуард vii.
Помимо медсестер, за больной ухаживала приятельница семейства Дакуортов, тридцатисемилетняя Вайолет Дикинсон – та самая Вайолет, кому Вирджиния писала из Италии слезные письма. Высокая, некрасивая, всегда неряшливо одетая, но добросердечная, веселая и энергичная старая дева, про которую шутили, что у нее много незаконнорожденных детей и один, но воображаемый муж. Сэр же Лесли шутил (когда еще шутил), что ее единственный недостаток – шесть футов роста.
Вайолет перевезла Вирджинию к себе в Бернам-Вуд – и больная, которая провела в доме Вайолет все лето, ни на минуту ее от себя не отпускала, вела с ней доверительные беседы, что никак не вязалось с присущими ей сдержанностью и замкнутостью. Знакомы, впрочем, они были давно, и Вирджиния еще тогда, в первые дни знакомства, отдала должное этой нелепой, громоподобно смеющейся «каланче», как ее за глаза называли:
«Несмотря на свой огромный рост и довольно комическую внешность, в ней было несомненное достоинство… Она болтала не переставая, хохотала и с юношеским пылом вступала в любой разговор. По достоинству оценить ее нрав удавалось далеко не сразу, лишь со временем становилось понятно, что у этой веселой, оживленной, суматошной женщины случаются минуты подавленности, что она умеет быть сдержанной, погруженной в себя. И вместе с тем она всегда готова посмеяться вместе с вами – и в этом ее обаяние…»
А вот еще один портрет Вайолет; они с Вирджинией дружат уже многие годы, а отношение к ней писательницы – столь же ласково-ироничное, отношение же Вайолет к Вирджинии, часто болевшей и впоследствии, – столь же трогательно-заботливое:
«Невозможно не услышать ее джазовый распев, когда она, входя в холл, заговаривает с Лотти: “Где мое повидло? Как миссис Вулф? Ей лучше? Где она?” Одновременно она снимает пальто, отдает зонтик и не слушает ответов. Потом является ко мне в комнату, невероятно высокая, в сшитом на заказ костюме, с перламутровым дельфином на черной ленте… Погрузневшая, с выпуклыми голубыми глазами на белом лице и как будто отбитым кончиком носа. И с маленькими прелестными аристократическими ручками»[12].
Подобное «однополое» увлечение (причем женщинами, как правило, значительно старше себя) было у Вирджинии не первым. За несколько лет до этого она, тогда еще совершенно здоровая, неожиданно увлеклась Мэдж Саймондс, по мужу – Воган, дочерью уже упоминавшегося критика Джона Эддингтона Саймондса. Насколько сильным было это увлечение, страстное и при этом совершенно невинное, мы видим по ее письмам, а также по дневнику, которому, как и все шестнадцатилетние девицы, Вирджиния поверяла свои душевные радости и горести.
«Я была у себя наверху, и вдруг почувствовала, как забилось у меня сердце, забилось, а потом замерло, я изо всех сил стиснула ручку кувшина, который держала в руке, и воскликнула: “Мэдж здесь, она сейчас у нас!”»
В Мэдж, «любимом лягушонке», как Вирджиния ее называла, она нашла родственную душу: романтическая внешность, меланхолия, непосредственность, любовь к живописи и литературе; впоследствии она выведет подругу (придав ей кое-какие карикатурные черты, о чем еще будет сказано) в образе Салли Сетон в «Миссис Дэллоуэй».
Как и Салли – Клариссу, Мэдж подкупала Вирджинию смелостью и бесшабашностью. А еще – независимостью, совершенным безразличием к окружающим, «будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть». А еще – цельностью, благородством, «совершенно бескорыстным чувством, – напишет позже Вирджиния, – которое может связывать только женщин». «Только женщин»: нетрадиционные «однополые предпочтения», как видим, у нее уже намечаются.
Они переписывались, а когда встречались – болтали ночи напролет, говорили о жизни, о том, как они переделают мир. Мэдж поселила Вирджинию, поправлявшуюся после нервного срыва, у себя в доме при Гигглсуикской школе, где ее муж Уилл Воган был директором. Давала Вирджинии читать Уильяма Морриса, подруги собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, бороться за права женщин. Однако время развело прообраз и литературный образ: в отличие от своего прототипа, Салли Сетон с возрастом перебесится, выйдет замуж за богача, а не за скромного директора школы, и поселится в роскошном особняке под Манчестером, а не в скромной квартире при школе…
Выздоровление, хотя и не полное, наступило только осенью. Вирджинию еще мучили головные боли и кошмарные сны, но ей хотелось поскорей снова сесть за письменный стол, доказать всем, в том числе и самой себе, что «со мной всё в порядке, хотя уже тогда появился страх, что это не совсем так».
Да и мысли о покойном отце уже не были столь мучительны.
«О, моя Вайолет, – писала она в это время своей подруге и сиделке. – Если бы на свете был Бог, я бы поблагодарила Его за то, что он спас меня от страданий последних шести месяцев! Вы не можете вообразить, какую несказанную радость доставляет мне ныне каждая минута моей жизни, и я молюсь только о том, чтобы дожить до семидесяти. Очень надеюсь, что я вышла из болезни не такой самонадеянной и самолюбивой, какой была раньше, и что теперь чаяния других людей станут мне ближе и понятнее. Печаль, которую я испытываю сейчас в отношении отца, немного утихла, стала естественней, и жить теперь опять хочется, хотя жизнь и стала более тоскливой. Не могу передать Вам, чем Вы были для меня все это время, и если любовь хоть чего-то стоит, любить Вас я буду всегда».
Оправившись после болезни, Вирджиния в январе 1905 года вернулась в Лондон. Но не в родительский дом на Гайд-парк-гейт 22, где Стивены больше не жили, а в Блумсбери, куда братья и сестра, отправив совсем еще слабую Вирджинию в Кембридж, к тетке, сестре отца Кэролин-Эмилии, двумя месяцами раньше переехали – подальше от грустных воспоминаний. По возвращении Вирджиния чувствовала себя много лучше, хотя о полном выздоровлении еще не могло быть речи, что хорошо видно из письма Ванессы Мэдж Воган:
«Сейчас она вполне здорова, вот только спит неважно. Здорова и очень активна. Много гуляет, но уходить далеко и надолго ей нельзя. Утром, прежде чем сесть за письменный стол, она в течение получаса гуляет одна, а потом выходит еще раз, и тоже на полчаса, перед обедом. Во второй же половине дня одна она из дому не выходит, кто-то обязательно должен ее сопровождать… Спать она ложится очень рано, в остальном же ничем от нас не отличается».
Отличается, и очень. Слабое здоровье будет у нее всю жизнь, и страдать она будет не только от психических недугов, но и от телесных. Из хронологии жизни Вирджинии Вулф, дотошно составленной автором ее двухтомной биографии Квентином Беллом[13] – «по совместительству» ее племянником, сыном Ванессы, – следует, что не проходило и месяца, чтобы Вирджиния не слегла с головной болью, или не жаловалась на сердце, или не заболела тяжелым гриппом. Или же просто очень плохо себя чувствовала – настолько, что врачи, боясь рецидива психического срыва, предписывали ей долгий постельный режим, и она месяцами не садилась за рукописи и даже за свой любимый дневник, компенсируя отсутствие работы запойным чтением.
…Переехали Стивены гораздо дальше, чем им казалось. Перебравшись в Блумсбери, они, по существу, переселились из викторианской эпохи в эдвардианскую, – Вирджиния осознает это много позже:
«Когда мы с Ванессой стояли перед отцом, а он метал в нас громы, и мы, дрожа от страха, понимали, как он смешон, – это значило одно: мы смотрели на него глазами людей, которые видят что-то иное на горизонте. Видят то, о чем сегодня знает каждый юноша и каждая девушка в свои шестнадцать или восемнадцать лет. Злая ирония состояла в том, что наши мечты о будущем находились в полном подчинении у прошлого… По натуре мы с Ванессой – искательницы, революционерки, реформаторы, а мир, в котором мы жили, отставал от века по меньшей мере лет на пятьдесят…»[14]
Осенью 1904 года у младшего поколения Стивенов начиналась новая, независимая, самостоятельная жизнь. Теперь их мечты не находились «в подчинении у прошлого». Они больше не отставали от века – они опережали его.