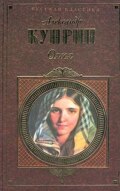Александр Куприн
Памяти Чехова
Обращал внимание в наружности А. П. его лоб – широкий, белый и чистый, прекрасной формы: лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные, задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека – у Толстого.
Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастию, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными, благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А. П. сказал, посмотрев на них:
– Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.
Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, – пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда – небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.
IV
Вставал А. П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей, вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда, безукоризненно, изящно и скромно одетого.
По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставать: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.
Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессоры, светские люди, сенаторы, священники, актеры – и бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота – и настоящая, и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.
Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, – надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.
Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по-моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в академию по этому поводу – прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души.
«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.
А. Чехов».
Странно – до чего не понимали Чехова! Он – этот «неисправимый пессимист», – как его определяли, – никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном: