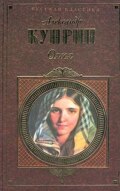Александр Куприн
Памяти Чехова
– В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, – говорил он молодым писателям. – Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? Это называется – произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких штучек не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: «Эх, вы, Че-хо-вы!» Должно быть, это было смешно».
Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, – говорил он решительным тоном. – И оттого-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И знаете, кто сделал такой переворот? – Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, – они все здоровые мужики. Но писать – мастера».
В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. «Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, – все равно, какое придет в голову, – и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире – это манерно».
Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. «В одной хорошей повести, – рассказывал он, – я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любуется на них. Так – нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно».
VIII
Сын Альфонса Додэ в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить.
Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым – без привязанности, благодетелем – не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности.
Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А. П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:
«Скажите вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов – это обыкновенный maximum для первых родов».
Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А. П. ответил спокойно, даже равнодушно:
– Да ведь, когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. Все равно – и там такая же радость.