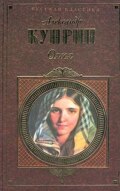Александр Куприн
Памяти Чехова
II
Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броме и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ – собаки!» – говорил он иногда с добродушной улыбкой.
Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.
Одну собаку звали Тузик, а другую – Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:
– Уйди же, уйди, дурак… Не приставай…
И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:
– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.
Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:
– Ах ты, глупый, глупый… Ну как тебя угораздило?.. Да тише ты… легче будет… дурачок…
Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А. П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А. П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.
С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны, – и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в «Русском о-ве пароходства и торговли», человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.
Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда подымаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П-чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.
«И вот тогда произошла сверхъестественная сцена, – рассказывал мой знакомый. – Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:
– Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты – вот кого ударил!
И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, раздельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!» Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя, – лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это «как вам не стыдно». И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».