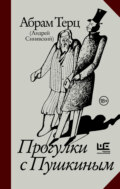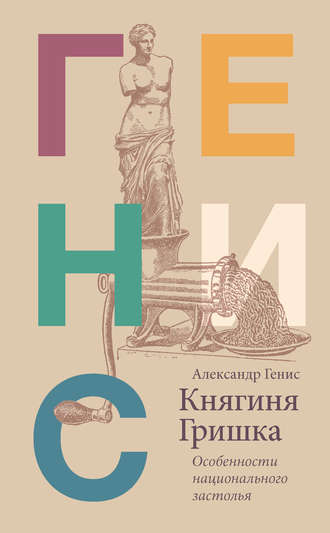
Александр Генис
Княгиня Гришка. Особенности национального застолья
© Генис А. А., 2019
© Бондаренко А. Л., художественное оформление, 2019
© ООО “Издательство АСТ”, 2019
* * *
Особенности национального застолья
1
В списке объектов, охраняемых ЮНЕСКО, самые интересные не являются объектами вовсе. И понятно почему. Не надо большого ума, чтобы окружить заботой Парфенон и Колизей. Куда сложней найти и понять уникальную ценность того, что на официальном языке международной бюрократии называется “нематериальным наследием человечества”.
Раз наследие “нематериально”, оно – духовное, что делает его трудноуловимым и неописуемым, особенно для тех, кто с ним вырос. Попав на Восток, я кланяюсь с тем же нелепым усердием, с каким мне там жмут руку, не догадываясь о правильной продолжительности, крепости и динамике рукопожатия.
В перечне ЮНЕСКО всё соблазнительно, экзотично и увлекательно. Фламенко и соколиная охота, йога Индии и казацкие песни Украины, фаду Португалии и эпос якутов, древняя японская музыка гагаку и образ жизни забайкальских староверов. Сюда относят редкие умения, исключительные навыки, красочные ритуалы и живописные церемонии, но главное – специфическую атмосферу, возникающую внутри, вокруг и вследствие того или другого занятия, заслужившего всемирную охрану.
Например – карнавал. Это не переодетая толпа, а сложно организованное сообщество ряженых, временно принявших условия перевернутого мира и живущих согласно его законам – понарошку, но всерьез (дальше у Бахтина).
Но особенно интересной становится нематериальная среда, когда она оказывается застольем. Нигде, даже в постели, человек не раскрывается так полно, как в компании с ложкой, вилкой и сотрапезниками. Осознав ценность кулинарных обычаев, ЮНЕСКО с нарастающим азартом присоединяет к своему списку очень разные застольные феномены.
Недавно, скажем, сюда попала “пивная культура” Бельгии. Считается, что в этих краях жил изобретатель пива король Гамбринус, который упоминался еще у Тацита. Правда, с точки зрения римлянина, избалованного теплым югом и его виноградниками, пиво было жуткой гадостью:
– Напитком, – не скрывая отвращения, пишет о германцах Тацит, – им служит жидкость из ячменя или пшеницы, превращенная путем брожения в некое подобие вина.
Потомки отнеслись к пиву иначе. Гамбринус был обожествлен, и сегодня его имя носят пивоварни от Техаса до Ижевска. Но в Бельгии пивная традиция доведена до декадентской утонченности: 1500 сортов, и почти для каждого есть сосуд особой формы. Конечно же, такому нет цены в мире, где пивом часто называют ледяные банки с пузырьками.
К подобным шедеврам живота и духа ЮНЕСКО относит плов узбеков и таджиков, которые умеют приготовить 200 видов одного блюда так, что оно остается собой, не переставая удивлять разнообразием сырья, приемов и вкуса.
Другой пример – турецкий кофе в джезве, который варится в раскаленном речном песке из зерен, смолотых в пыль на ручной мельнице. Великий знаток кулинарии и ее экстремист Вильям Похлёбкин утверждал, что только такой кофе не вредит здоровью.
Сюда же попала неаполитанская пицца с ее трехсотлетней традицией.
Особое место на доске почета ЮНЕСКО занимают не отдельные блюда вроде пестро разрисованных хорватских пряников, а кухни целых регионов. В частности – средиземноморская. Объединив Грецию, Италию, Испанию и Марокко, эксперты выделили те драгоценные черты, что прибавляют года и радости их жителям: оливковое масло первого отжима, красное вино, обильную морскую живность и сиесту.
Другая кухня, удостоившаяся такой чести, – мексиканская. Здешний повар всё готовит на свой лад: от игуаны до курицы, которую тут подают в шоколаде. Мне, впрочем, больше нравится безобидное пюре гуакамоле, когда авокадо растирают в каменной ступке, ведь ацтеки не знали железа.
Японская кухня вошла в перечень вся целиком – вместе с натурфилософией, утонченной поэзией и предельно разнообразной посудой. О последней говорит современное хайку:
Французский ресторан.
Как скучно:
все тарелки круглые.
В этой традиции всё съедобное сохраняет свою индивидуальность. При этом японская кухня пользуется обедом, как мы – сонетом: меню передает всю полноту чувств и их сезонный характер. Плюс этикет. Даже иностранцам положено сидеть на коленях, а не скрестив ноги. Супом, обходясь без ложки, надо хлюпать так, чтобы слышали соседи. И никогда не наливать себе самому. Однажды ночью я видел, как в круглосуточной забегаловке возле токийского рынка два алкаша с трогательной вежливостью наливали друг другу саке в краденые стаканы, достав их из рукавов потрепанных кимоно.
Ну и наконец, наиболее бесспорный вклад в кулинарную историю человечества. Это – классический и неспешный французский обед. Аперитив (скажем, анисовый пастис), бретонские устрицы с бургундским шабли, четыре перемены (хорошо бы с рыбой тюрбо и утиным конфи), посредине – “нормандская дыра” из кальвадоса, десерт (мой любимый – перевернутый вверх ногами тарт татен с нормандскими яблоками, крохотная рюмка 55-градусного шартрёза – и спеть).
От французской пляшет остальная еда Запада, и правильно делает. Уже потому, что тут всё подают в соусе. Любой из них – чудо, но если решишься готовить дома, то грязными будут все кастрюли, пол, плита и кот.
Намного проще и ничуть не хуже лучший в мире ланч во французской провинции. Он состоит всегда из одного, но разного: багет с местным паштетом, местным сыром и местным вином. Во Франции гармония почвы с традицией создает непревзойденный и бесконечный гастрономический опыт, ставший, наряду с витражами Шартра и башнями Сен-Мишель, сокровищем европейской культуры.
Есть, однако, столь своеобразная национальная культура застолья, что она еще не добралась до ЮНЕСКО.
2
– У других едят, у нас закусывают, – сказал мне товарищ, признавшийся, что, сидя за дружеской трапезой, редко добирается дальше селедки, еще хорошо если с картошкой.
В этом тезисе, как в египетском иероглифе (так утверждал Фрейд), заключалась истина вместе со своим опровержением. Всякая русская еда предусматривает водку. Не квас, не пиво, не вино или боржоми, но именно и только водку. Обед без нее – оксюморон, встречавшийся в студенческой, но не заводской столовой. Безвкусная, бесцветная, почти невидимая и нетленная, водка вызывает неоспоримые перемены в душе и теле.
Это ни в коем случае не значит, что выпивка исчерпывает русский стол. Она его организует, направляет, осмысляет, просветляет и компрометирует. Водка определяет набор продуктов и предусматривает кислую вкусовую гамму, которую труднее всего принять чужеземцам. Морщась, они дивятся вездесущей сметане, крутому черному хлебу, терпкому морсу, вечному соленому огурцу и непревзойденным суточным щам. От такого меню у нас текут слюни, а у них – слезы, даже без хрена. Удивление, знаю по опыту, серьезно уменьшится, если ко всему этому вместо категорически нелепого в данной ситуации вина подавать в меру охлажденную, а не ледяную водку – будь то огненная “Хортица” с перцем, кристальная “Белуга” или хреновая настойка, которую мой друг дипломат Илья Левин готовил в странах четырех континентов.
Брачные узы русской кухни с водкой нерасторжимы, благостны и не обязательно ведут к пьянству, тем паче – алкоголизму. Первое подразумевает безразличие к еде, второй исключает компанию. Между тем, лишь объединив выпивку с обедом и друзьями, мы добьемся того эффекта, который по богатству социокультурных жанров делает исключительным отечественное застолье. По сложному набору правил оно не уступает ни званому обеду на Западе с его мучительной хореографией ножей и вилок, ни восточному банкету с его малопонятной архаической символикой. Другое дело, что нам этикет русского застолья кажется несуществующим, а чужим – необъяснимым.
– Национальная кухня, – писал антрополог Леви-Стросс, среди прочего автор монографии “Сырое и вареное”, – остается невидимой для тех, кому она своя.
Собственные вкусовые привычки кажутся слишком самоочевидными, естественными, не требующими объяснений. Тем труднее их понять иностранцу. И не потому, что те же щи надо варить в трех бульонах, что калью следует есть со льдом вприкуску, что красной называют и белую осетрину, что мануфактурой можно если не закусить, то занюхать. Куда сложнее – самое простое. Именно в кулинарной аскезе проявляется интимная теплота родного застолья.
Японцы научились вычленять и ценить органическую простоту и добровольную бедность, объединив их в такую тонкую эстетическую категорию, что в западных языках для нее не нашлось перевода: ваби-саби. Но и в русском обиходе эти понятия играют важную – и, как многие жалуются, слишком большую – роль. Вершины русского ваби-саби – сладкие неудобства дачи, тесная ночь в палатке, баня на хуторе и небрежное, вроде бы случайное, но на самом деле неизбежное застолье.
Вспоминая наиболее удавшиеся трапезы, я отдаю предпочтение отнюдь не самым пышным пирам. Мне никак не вспомнить, чем нас с двумя лордами кормили на ужине в Вестминстерском дворце. Я не понял, что подавали виртуозы на конкурсе поваров в Рейкьявике. Я не умею перечислить деликатесные тапас, которыми угощали на гастрономическом фестивале неподражаемые баски. Но я не забуду, что ел, когда помогал друзьям переезжать на новую квартиру. Вот что: квашеную капусту с базара, соленые сыроежки в домашней сметане оттуда же и жареную картошку прямо из сковороды, потому что тарелки еще не распаковали, а терпеть уже мочи не было. Сидя на расползающихся стопках книг, мы ели с газеты на квадратном ящике, заменившем нам круглый стол короля Артура, рыцарям которого мы не уступали в жажде подвигов, растущей с каждой бутылкой – вплоть до той, что покупалась у ресторана “Даугава” после закрытия магазинов.
Всякое удачное застолье обладает собственным рисунком, индивидуальным характером и непременными свойствами. Одно из лучших – спонтанность.
– Чем Бог послал, – говорим мы, радуясь случаю, и выставляем причудливый набор консервов – от красной икры до кабачковой. Разогреваются вчерашние котлеты, кипит в кастрюле бегло почищенная картошка, открывается всего неделю назад закрученная банка огурцов, и в магазин надо разве что за хлебом и водкой.
Импровизация отнюдь не единственная форма русского застолья. Часто оно требует непомерных сил и умения. Американцы, не исключая евреев, встречавших гефилте фиш в банках, не верят, что рыбу можно провернуть, сварить и засунуть в ее же кожу, чтобы съесть холодной со свеклой и морковкой. Еще страшнее – холодец. На его готовку уходит рабочий день и морозная ночь, когда нас то и дело поднимает тревога: застынет ли холодное без желатина (класть его считалось западло).
Все труды и заботы отходят в сторону, стоит гостям плотно усесться за стол, разлить по одной, второй и третьей, после которой ломается скучноватая торжественность, снимаются пиджаки, смягчается поза и включается неровная, необязательная, но никогда не прекращающаяся беседа. В ней, как огонь от трения, рождается и ветвится неосязаемая задушевность хаотического общения. Каждое лыко в строку: шутка – в жилу, спор – горяч, цитата – к месту, комплимент – искренен, и выпито ровно столько, сколько нужно, чтобы, как написано в “Пире мудрецов” Афинея, “оставаться на грани здравого смысла”, балансируя над чертой, отделяющей плато трезвости от обрыва драки.
Такое застолье нельзя имитировать, заимствовать, описать, сыграть в кино или поставить в театре. Оно, как всякий – от крестин до Первого мая – праздник, обретает смысл для тех, кто в нем участвует и не глядит на себя со стороны. Зыбкая, неуловимая, но благодатная атмосфера чуда витает над столом, освящая всё, что за ним пьется, жуется и говорится.
– Всё лучшее, – решусь сказать, – в русской – и уж точно в советской – культуре зачато между блюдами и стопками, в табачном дыму, легком угаре, с умом и дружбой. Русское застолье и есть то вожделенное гражданское общество, которое всегда противостояло власти – как бы она ни называлась и чего бы она ни добивалась.
3
Прошу считать всё вышесказанное заявкой на включение русского застолья в состав нематериального наследия человечества, которое охраняется ЮНЕСКО.
Нью-Йорк, 2019
Первое: Кулинарные истории
Красный хлеб
Кулинарные приемы, – писал Леви-Стросс, – язык, на котором общество бессознательно раскрывает свою структуру”. Пища, которую съедает человек, становится им самим. Мы – то, что мы едим, поэтому набор продуктов питания и способы их обработки тесно связаны с представлением личности о себе и своем месте во Вселенной и обществе. Кулинария – инструмент, позволяющий изучать и космологические, и социологические оппозиции.
Кулинарная семиотика позволяет обнаружить в каждом блюде социальные знаки, которые в совокупности образуют социокультурную систему, раскрывающую специфику национальной ментальности.
Эволюция советской кухни
Чтобы описать специфически советские феномены, связанные с кулинарной тематикой, необходимо рассмотреть советскую кухню в исторической перспективе и общеполитическом контексте.
Хлеб. Как у всех земледельческих народов Европы, кухня русских предельно хлебоцентрична. Черный, ржаной, кислый хлеб из заквашенного теста, в отличие от обычного в Западной Европе белого пшеничного, занимал исключительное место на любом – от крестьянского до царского – русском столе.
С этим обстоятельством связан анекдот, который приводит Пушкин в “Путешествии в Арзрум”: турецкие пленники “никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: “Худо, брат, жить в Париже: есть нечего, черного хлеба не допросишься”.
В середине XIX века больше половины калорий в крестьянском рационе доставлял хлеб. Всё остальное в русской кухне считалось дополнением, приварком. Описывавший простонародный русский стол XVII века Олеарий кроме хлеба упоминает свеклу, капусту, огурцы и чеснок – “третье, после бани и водки, лекарство”.
Ни мясные, ни молочные продукты большой роли не играли. В крестьянских семьях пить молоко разрешалось только младенцам, взрослые хлебали его ложками. До середины XIX века был практически неизвестен и сыр. У Замятина рассказывается, что во время революции крестьяне убили помещика-сыровара, заставлявшего их есть “мыло”.
Рыба. Крайне важную роль в русской кухне играла рыба. Это объяснялось наличием в православном календаре 216 постных дней и обилием полноводных рыбных рек.
Французы, побывавшие в России в 1607 году, писали: “Во всей Европе нет большего разнообразия пресноводной рыбы – осетрина, белуга, белорыбица, стерлядь и всё, что есть во Франции, за исключением форели”. Документ XVI века упоминает 35 сортов рыбы. В XIX веке в Неве водилось 20 видов лосося.
Хотя соленая красная (не по цвету, а в смысле – хорошая, от слова “красота”) рыба остается главным русским деликатесом, старая рыбная кухня с ее изысканными блюдами – пирог с вязигой, тельное, караси в сметане, расстегаи с налимьей печенкой, стерляжья уха – в советское время практически исчезла. Место свежей пресноводной рыбы заняла мороженая морская, которая плохо вписывалась в традиционную рецептуру.
Дикие растения. Важным подспорьем в русском хозяйстве всегда был сбор ягод, орехов и трав. Эта традиция многих спасла в ленинградскую блокаду, когда в пищу употребляли более ста дикорастущих растений. Собирание существенно разнообразило диету советского человека и в мирное время – в справочнике, вышедшем в 1980 году, перечислены те же сто растений.
Беспрецедентно большое место в русской кухне занимали грибы, которые назывались едой бедных и лакомством богатых. Грибы, как свежие, так сушеные и соленые, служили важным источником протеина, отчасти заменяя мясо. В советское время сбор грибов, опоэтизированный Владимиром Солоухиным в известной книге “Третья охота”, стал национальным развлечением и приобрел характер массовых мероприятий, в которых участвовали целые институты, заводы и фабрики. Характерно, что чреватая смертельно опасными отравлениями мутация белых грибов, случившаяся летом 1993 года, не остановила грибников.
Русский лес всегда давал некоторую свободу маневра, позволяя сэкономить на покупной еде, отнимающей львиную долю семейного бюджета. В тяжелом 1991 году обед в городской семье мог выглядеть следующим образом: суп из щавеля, жареные грибы, чай с черничным, земляничным или брусничным вареньем. Как и в старину, из покупного тут лишь чай и сахар.
Щи да каша. Александр Энгельгардт, крупный химик, агроном-практик и большой знаток крестьянской жизни, писал: “Черный ржаной хлеб составляет главную составную часть пищи. Прочная пища должна состоять из щей с хорошей жирной солониной и гречневой каши с топленым маслом или салом. Если при этом есть стакан водки перед обедом и квас, чтоб запить эту прочную, крутую пищу, то с такой пищей можно перейти Альпы”.
Состав русской пищи, писал Энгельгардт, требует кислоты: “Без кислого блюда для рабочего человека обед не в обед. Отсутствие кислоты в пище отражается и на количестве работы, и на здоровье, и даже на нравственном состоянии рабочих людей. Уж лучше червивая капуста, чем никакой”.
Хотя щи да каша потеряли универсальное значение, в советской кухне по-прежнему доминировала кислая гамма. Все национальные супы, кроме ухи, – щи, солянки, рассольники, борщи, окрошки – заправляются для кислоты сметаной. Как праздничное, так и будничное застолье немыслимо без разносолов – не столько соленых, сколько кислых блюд: квашеной капусты, соленых огурцов, моченых яблок. Любимая ягода – клюква, сорт яблок – антоновка, напиток – квас. Кислые овощи – излюбленная закуска к водке, а их рассол – народное лекарство от похмелья. На худой конец кислые продукты, например огурцы с хлебом или картошкой, могут заменить обед.
Пристрастие к кислоте (причем именно молочной, уксус – позднее европейское заимствование) – специфическая черта русской кухни, которая всегда связывала советский быт с традиционным крестьянским обиходом. Тем более что даже в городских условиях многие солили огурцы, грибы и квасили капусту.
Ресторан. Представление о городской русской кухне среднего класса накануне революции дает английский путеводитель 1912 года. Главной чертой русской кухни он называет чрезмерность: супы слишком сложные, соусы слишком маслянистые, мясо слишком пряное, еды слишком много. Автор описывает чаепитие в Москве, которое включало помимо чая с пирожными бутерброды с икрой и соленой рыбой, а также “три сорта украинских арбузов, крымский виноград и клубнику с листочками”.
Вот типичное меню русского ресторана, которое приводится в путеводителе: “Закуски, борщ, щи или уха с расстегаями, рыба, обычно стерлядь, отбивные котлеты с гречневой кашей”. Отмечается отсутствие свежих овощей и безвкусные десерты. Отдельно упоминается татарское блюдо шашлык, которое всегда покоряло иностранцев. В обеих столицах, продолжает путеводитель, так много ресторанов, в том числе французских, немецких и итальянских, что автор спрашивает, “обедают ли русские когда-нибудь дома”.
Американский путеводитель 1960 года начинает описание советских ресторанов с Хрущёва. Ссылаясь на московскую “Прагу”, он заявил западным журналистам, что советские рестораны не уступят парижским. Из этого следует, пишет автор, что Хрущёв не был в Париже. Клиенты “Праги”, известного в дореволюционной Москве трактира, “напоминают шоферов грузовиков, которые вели машину всю ночь”. Путеводитель хвалит одно блюдо – блины с икрой, да и то потому, что икра в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке. С умеренной настойчивостью туристам рекомендуются рестораны с кухней нерусских республик, прежде всего грузинский “Арагви”.
Английский путеводитель 1980 года отмечает, что русские не ждут от ресторанов вкусной еды. В обед они ищут передышки, в ужин – выпивки и танцев. Поэтому меню, за неизбежным и выгодным исключением блюд грузинской кухни, предлагает пресную, тяжелую и невразумительную мясную пищу, много картошки, мало свежих овощей и молочных блюд. С несколько большим воодушевлением путеводитель отмечает разнообразие супов, эту “вершину славянской кулинарии”.
Кулинарный нигилизм. Одна из ярких черт русской кухни – светская аскетическая традиция, идущая от нигилистов. В кругах радикальной интеллигенции середины XIX века питание сознательно ограничивалось до минимума – чай, черный хлеб, соленые огурцы. Вот как анархист Пётр Кропоткин описывает обед русского студента: “Чай, хлеб, немного молока, маленький ломтик мяса, зажаренный на спиртовой лампочке под оживленные разговоры про последние события в социалистическом мире”. Только отчасти это объяснилось экономией или солидарностью с “трудовой массой”. Кулинарная аскеза обладала самостоятельной ценностью как знак отречения от низких плотских соблазнов в пользу высоких идеалов. Возможно, тут сказалась и традиция смирения плоти – хотя нигилисты были атеистами, многие из них вышли из семей священников.
Гастрономический нигилизм стал важной составной частью популярной легенды о первых большевиках, якобы питавшихся, как Ленин в Кремле, только черным хлебом и жидким чаем.
Кулинарное безразличие как сознательно выбранная позиция часто отличало радикальную, близкую к диссидентам советскую интеллигенцию. Отчасти по необходимости, отчасти демонстративно, как вызов коррумпированным властям, в этой среде культивировался бедный студенческий быт, где меню строилось на гастрономических суррогатах: чай вместо супа, плавленые сырки вместо завтрака, но прежде всего колбаса – простой в употреблении и концентрированный в калорийном отношении заменитель обеда. Поэтому дефицит колбасы, ставшей символом пищи как таковой, ощущался особенно остро. Советские газеты, попрекая эмиграцию из СССР за то, что она уехала на Запад в поисках материального достатка, называли ее колбасной.
Военный коммунизм. В Гражданскую войну Россия кормилась почти исключительно воблой и пшенной кашей.
Пшено – семена проса, освобожденные от шелухи. Пшенная каша или похлебка – отчасти заменяющая хлеб крестьянская пища на юге России, распространена также в Азии и Африке.
Об этих продуктах вспоминают все без исключения мемуаристы. Борис Зайцев: “Очереди к пайкам, примус, пшенка без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко”. Виктор Шкловский: “О советской вобле когда-нибудь напишут поэмы, как о манне. Это была священная пища голодных”.
Вобла – небольшая, до 30 сантиметров, рыба Каспийского моря, родственная плотве. Водившаяся в изобилии в старину, она выбрасывалась как сорная. Со временем вяленую воблу, как самую дешевую рыбную пищу, начали заготовлять, используя старый, оставшийся от дорогих сортов рыбы соляной рассол-тузлук. В связи с понижением уровня Каспийского моря поголовье воблы так стремительно сократилось, что она стала редкой деликатесной закуской к пиву.
НЭП. Новая экономическая политика дала русской кухне последний шанс. Возвращение дореволюционных продуктов было сигналом нормализации, причем не только быта: “Появился эклер – победа жизни. Сладкий гладко-глянцевитый эклер на Арбате – знак вольного творчества, личное, а не казарма” (Борис Зайцев). Вновь стали работать знаменитые на всю Европу кондитерские фабрики Эйнема и Абрикосова. “Моссельпром” предлагал к продаже консервированное мясо, осетрину, судака, сельдь.
По контрасту с сухой аскетической безбытностью военного коммунизма нэп поражал плотской органикой: “Дыхание рынка густое, полное, утробное с урчанием, гавканьем, присвистом. Здесь сварились все классы, примирились, сторговались… Шашлыки бараньи шипят, масло пузырями хлопает. Мерзкий, кисловатый запах сора, людей, мочи, пищи. Запах того, что составляет жизнь”.
В 1923 году из новороссийского порта отчалил пароход “Валлос” с первой экспортной пшеницей. В 1923 году СССР достиг довоенного уровня по производству зерна.
Коллективизация. Искусственный голод 1930-х годов и коллективизация разрушили крестьянский уклад, а с ним и основу национальной кухни. Социализм, как пролетарская идеология, был особенно пагубен для сельского хозяйства. Образ “фабрики зерна” родился по аналогии с конвейерным производством, но крестьянский труд нельзя разделить на простые, механические операции, которые легко поддаются контролю и учету. Результаты тут зависят не от количества, а от качества труда. Поэтому колхозы и совхозы всегда требовали огромного непроизводительного аппарата, который всё равно не мог справиться с контрольными функциями.
Крестьяне, ограбленные за счет вздутых цен на индустриальные товары, питались хуже всех. В 1940 году адекватным питанием было обеспечено 66 % интеллигентов, 43 % служащих, 36 % рабочих и только 3 % крестьян. Если в среднем до войны на горожанина приходилось 36 кг мяса и сала в год, то на крестьянина – всего 16 кг.
Хроническая нерентабельность коллективного хозяйства вынудила партию отступить от плана тотальной коллективизации. В 1934 году крестьянам, хотя и со множеством оговорок, вернули приусадебные участки. Занимая всего 4 % обрабатываемой земли, они давали 25 % сельскохозяйственной продукции. Частники, торгуя на “колхозных” рынках разносолами, сезонными овощами и ягодами, грибами, а иногда рыбой, дичью, медом, поддерживали связь горожан с русскими кулинарными традициями.
Миф изобилия. Хотя к 1953 году сельское хозяйство СССР еще не достигло уровня 1913 года, в первой же речи после смерти Сталина Хрущёв заявил, что коммунизм нельзя построить без изобилия зерна, мяса и молока. С этих пор образ аграрного (а не промышленного, как при Ленине и Сталине) изобилия стал навязчивой идеей руководства. В партийных документах 1960-х постоянно повторялось слово ”изобилие”. Оно было одной из важных тем Третьей программы партии. Главным соблазном обещанного ею к началу 1980-х коммунизма как раз и стало изобилие продуктов питания.
Братья Стругацкие сформулировали эту голодную мечту в своем раннем научно-фантастическом романе “Возвращение”: “Проблема питания перестала существовать так же, как никогда не существовала проблема дыхания”.
При Хрущёве началась гонка за Америкой по производству сельскохозяйственной продукции, которую продолжил и Брежнев. При нем была установлена “научная” норма потребления мяса – 82 кг (в США – 84 кг), что требовало 40-процентного прироста аграрного производства. В реальности рекордный уровень достиг лишь 57 кг, но и это потребовало постоянных закупок зерна, которое в основном шло на корм скоту. Если в 1963 году, когда СССР начал ввозить американское зерно, импорт составил 10 млн тонн, то к 1984 году – уже 50 млн тонн.
Очередь. Между 1950 и 1970 годами зарплата, не обеспеченная ростом производства, выросла на 200 %. Поскольку радикально повышать цены в СССР не решались (особенно после волнений в Новороссийске, вызванных вздорожанием мяса на треть), был найден компромисс – очередь. По молчаливому уговору пустые полки магазинов сочли более приемлемым выходом, чем рост цен.
В советской торговле продукты исчезали и появлялись в непредсказуемом и необъяснимом порядке. Так, после неурожая 1963 года белый хлеб продавали только школьникам, зато в магазинах появились баснословно дешевые, но никому неведомые креветки. Как заметил американский журналист Роберт Кайзер, русские не могут сказать, что они любят, поскольку всегда едят не что хотят, а что достанут. Прихоть лишенного рыночной узды планового снабжения превращала каждый советский обед в род лотереи с меняющимися правилами.
Советский стол. Дефицит обессмысливал кулинарное искусство. Гастрономия постоянно упрощалась и фальсифицировалась. Легко заметить, что в советских кулинарных книгах рецепты значительно короче, чем в дореволюционных. Вкусовая гамма сужалась до самых примитивных сочетаний. Отсюда – грубое применение сильнодействующих приправ, вроде горчицы, которая потому и стояла всегда на столе вместе с солью и перцем.
В традиционных блюдах всё больше ингредиентов заменялось суррогатами или упразднялось. Исчезла кулинарная региональность, без которой был немыслим дореволюционный обед. За несколько поколений из коллективной памяти исчезли и сами старинные блюда, и их названия. Советское меню – набор произвольных терминов, которые зависят больше от газеты, чем от кулинарии, – закуска “Космическая”, котлета “Фестивальная”, напиток “Юбилейный”. Исключение составлял непременный в праздники салат “Оливье”, не имеющий, вопреки названию, отношения к французскому столу.
В более выигрышной ситуации оказались национальные кухни народов СССР. Причиной тому были как лучшая сохранность традиционного уклада, так и национальная политика партии, которая, прокламируя дружбу народов, помогала сохранить лицо нерусским кухням. Каждая республика имела в Москве кулинарное посольство – ресторан с национальной кухней. В результате по-настоящему вкусная еда связывалась у советского человека с блюдами кавказского или среднеазиатского репертуара – плов, манты, чебуреки, сациви, чанахи, пити, цыплята табака, люля-кебаб. На всемирной монреальской выставке “Экспо-67” советскую кулинарию представлял украинский борщ и грузинский шашлык.
Рядовая советская кухня свелась к минимальному набору обобщенных блюд: суп на костном бульоне с картошкой, капустой или макаронами и второе из молотого мяса с мучным соусом-заболткой. Десерт – сладкий, но не крепкий компот или неожиданно вкусное советское мороженое, которое к последней советской зиме 1991 года осталось единственным лакомством в стране.