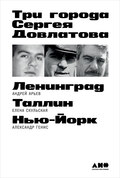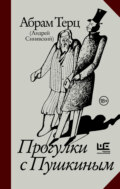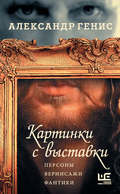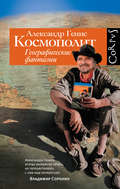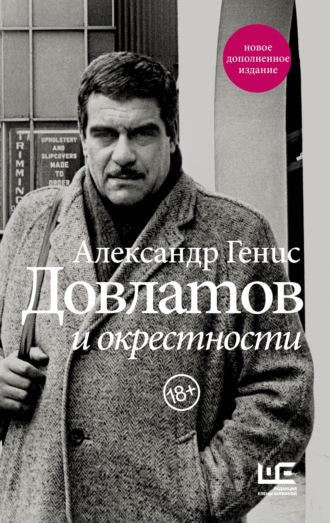
Александр Генис
Довлатов и окрестности
Свое писательское положение он оберегал с щепетильной решительностью. За год до смерти Сергей писал в Ленинград: “Я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя, я к этому статусу привык, и не хотелось бы от него отказываться даже на время”.
Я думаю, это не высокомерие, а суеверие. Он надеялся – как все авторы, тщетно, – что писательский статус избавит его от “привычного страха перед чистым листом бумаги”. Ради этого Довлатов доказывал себе то, в чем никто и не сомневался. Он всю жизнь боролся за право делать то, что всю жизнь делал. Эта борьба стала драмой и сюжетом его литературы.
Похоже, что к концу его самого утомила эта цепь тавтологий. В своем последнем интервью Довлатов сетовал на то, что относился к литературе “с чрезмерной серьезностью”.
Сейчас мне кажется, что тема разочарования в литературе могла бы захватить Довлатова не меньше, чем очарование ею. Что-то такое он и мне говорил, но я не слышал. Тогда мне это даже глупостью не казалось – так, шум. Ницше утверждал, что мы можем прочесть только то, что уже и сами знаем.
4
Между жизнью и книгой у Довлатова помещалась газета – всю жизнь он провел в редакциях. Без печатного органа Сергей начинал тосковать и тогда не брезговал самой незатейливой периодикой – и женскими журналами, и юмористическими, покровительствовал даже одноразовой газете с невероятным названием “Мася”.
При этом журналистику Сергей не любил, думаю, – искренне. Он не дорожил чужим мнением, так же как и собственным, которое было либо случайным, либо банальным. Цифры его раздражали, факты – особенно достоверные – тоже. Оставались только литературные детали, которые он обкатывал на полигоне газетной полосы.
Далеко не все, что Довлатов тут сочинял, было халтурой. И все же не зря он утверждал: “Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк”.
Газета была дорога ему другим – “типичной для редакции атмосферой с ее напряженным, лихорадочным бесплодием”.
В газете Довлатов чувствовал себя увереннее, чем в литературе, потому что тут у него был запас мощности, как у автомобиля с шестью цилиндрами. Сергей смотрел на газету как на арену не своих, а чужих литературных амбиций.
В редакции люди особенно уязвимы, ибо они претендуют на большее, чем газета способна им дать. Кажется, что она увековечивает мгновение, на самом деле газета лишь украшает его труп. Однако в самой эфемерности газеты заключен тонкий соблазн – есть благородство в совершенстве песчаного замка.
Газете свойственна туберкулезная красота. Скоротечность газетной жизни придает ей – опять-таки туберкулезную – интенсивность. Здесь с болезненной стремительностью заводятся романы, рождаются и умирают репутации, заключаются союзы, плетутся интриги.
Постоянство перемен, броуновское движение жизни, неумолчный гул хаоса – в газете Довлатов находил все, из чего была сделана его проза. Поэтому и в нашем “Новом американце” он вел себя не как редактор, а как режиссер. Сергей следил за игрой ущемленных им амбиций, сочувствовал оскорбленным им самолюбиям, вставал на защиту им же попранных прав.
Газета была его записной книжкой, его черновиком, его романом. Может быть, потому Довлатову и не удалась повесть “Невидимая газета”: она была лишь копией с оригинала.
Метафизика ошибки
1
И мать, и жена Довлатова служили корректорами. Неудивительно, что он был одержим опечатками. В его семье все постоянно сражались с ошибками. Не делалось скидок и на устную речь. Уязвленные довлатовским красноречием собеседники не раз попрекали его тем, что он говорит как пишет. В его речи действительно не было обмолвок, несогласований, брошенных, абортированных предложений. Что касается ударений, то ими он способен был довести окружающих до немоты. Я, например, заранее репетировал сложные слова. Но и это не помогало: в его присутствии я делал то идиотские, то утонченные ошибки. Ну кто, кроме Довлатова, знал, что в слове “послушник” ударение падает на первый слог?
На письме опечатки Довлатову казались уже трагедией. Найдя в привезенной из типографии книге ошибку, вроде той, из-за которой Сергей Вольф назван не дедушкой, а “девушкой русской словесности”, Довлатов исправлял опечатку во всех авторских экземплярах.
Теперь я и сам так делаю, но раньше относился к ошибкам куда снисходительней. Особенно к своим – в университете я был известен тем, что написал “матросс” с двумя “с”.
Опечатки – не всегда зло. Только они, как писал Карел Чапек, и развлекают читателей газет. Советскую прессу, скажем, ради них и читали. Одни злорадно говорили, что в “Правде” правдивы только опечатки, вроде любимого Довлатовым “гавнокомандующего”, другие – садисты из отставников – изводили редакции скрупулезным перечнем огрехов, третьи – собирали опечатки для застольных бесед.
Опечатка обладает самым загадочным свойством анекдота: у нее нет автора. Сознательно сделанная ошибка редко бывает смешной. Нас веселит именно непреднамеренность конфуза. Ошибка осмеивает не только исковерканное слово, но и речь как таковую. Опечатка демонстрирует уязвимость письма, несовершенство речи, беззащитность языка перед хаосом, который шутя и играя взламывает мертвенную серьезность печатной страницы.
Смех – это наши аплодисменты свободной случайности, сумевшей пробиться к смыслу.
В телевизионной программе, которую я редактировал в молодости, выпал мягкий знак в названии фильма. Получилась историко-партийная клубничка – “Семя Ульянова”. Теперь, может быть, такое еще поставят.
Сергей, как и все, любил байки про смешные ошибки. Про то, как Алешковский выпустил книгу, посвященную “дорогим дрязьям”, про то, как Глезер издал мемуары с полуукраинским названием: “Чоловек с двоиным дном”. Но хуже всего был его собственный промах. Готовясь к сорокалетию Бродского, Довлатов взял у него стихотворение для “Нового американца”. Никому не доверяя, Сергей заперся наедине с набранным текстом. Сидел с ним чуть ли не всю ночь, но ничего не помогло. В стихотворении оказалась пропущенной одна буква – получилась “могила неизвестного солата”. Юбилейный номер с этим самым “салатом” Довлатов в великом ужасе понес Бродскому, но тот только хмыкнул и сказал, что так, может, и лучше.
В своем пуризме Сергей охотно доходил до занудства. Оценивая на планерках “Нового американца” статьи коллег, он всегда оговаривал, что судит не содержание наших материалов, а лишь чистоту языка.
При этом Сергей – единственный недипломированный сотрудник газеты – обнаруживал неожиданные знания. Впрочем, и невежество его было столь же неожиданным. Как-то он попытался исправить Ветхий завет на Старый.
У Довлатова было, как он говорил, “этическое чувство правописания”. Характерно, что и в российских делах сильную реакцию Сергея вызывали не политические, а грамматические безобразия. С чувст-вом, близким к гражданскому негодованию, он, например, писал, что в книге Веллера обнаружил “продляет” вместо “продлевает”.
Отношения самого Сергея с русским языком были торжественны и интимны. В его выкрике: “Какое счастье! Я знаю русский алфавит!” – нет никакой рисовки.
Писатель, годами мучавшийся с каждым предложением, привыкает любить и уважать сопротивление материала. Путешествие от заглавной буквы к точке напоминает головоломку. Долгие манипуляции вознаграждаются беззвучным щелчком, подсказывающим, что решение найдено: та же упругая неуступчивость языка, что мешала автору, теперь держит страницу, распирая ее невидимыми силовыми полями.
Ненавидел Довлатов лишь чужие ошибки. Свои он не просто терпел – он их пестовал. И опечатки он ненавидел потому, что хотел сам быть автором своих ошибок.
Однажды мы исправили описку в довлатовской рукописи. Сергей рассвирепел, и никакие словари не могли его успокоить. В конце концов он перепечатал – из-за одной ошибки! – всю страницу, заставив сделать в газете сноску: “Опечатка допущена с ведома автора”.
Такие примечания есть и в довлатовских книгах. Сделав сознательную ошибку, Довлатов хвастливо призывает читателя полюбоваться ею. Так, приводя пышную цитату из Гёте, он дает сноску: “Фантазия автора. Гёте этого не писал”. Другой его рассказ открывается предупреждением: “Здесь и в дальнейшем явные стилистические погрешности”.
Интриговали Сергея и ошибки классиков. Почему, спрашивает Довлатов, Гоголь отказался исправлять “щекатурку”, а Достоевский – “круглый стол овальной формы”? “Видимо, – рассуждает он, – ошибки, неточности – чем-то дороги писателю. А значит, и читателю”. У Довлатова ошибка окружена ореолом истинности.
Ошибка – след жизни в литературе. Она соединяет вымысел с реальностью, как частное с целым. Ошибка приносит ветер свободы в зону, огороженную повествовательной логикой. Она – знак естественного, тогда как безошибочность – заведомо искусственное, а значит, безжизненное образование.
Мир без ошибок – опасная, как всякая утопия, тоталитарная фантазия. Исправляя, мы улучшаем. Улучшая, разрушаем.
2
Брехт говорил, что любят только счастливых. Довлатов любил исключительно несчастных. Всякую ущербность он принимал с радостью, даже торжеством.
Недостаток – моральный, физический – играл роль ошибки, без которой человек как персонаж судьбы и природы выходил ненастоящим, фальшивым. Несовершенство венчало личность. Ошибка делала ее годной для сюжета. Вот так китайцы оставляли незаписанным угол пейзажа.
Через отверстия в броне – пороки, преступления или хотя бы дурные привычки – человек соединялся с аморальным миром, из которого он вышел.
Страсть Довлатова к человеческим слабостям была лишена злорадства и казалась бескорыстной. Сергей был одержим не грехом, а прощением. Что тоже не сахар, ибо слабым он прощал все, а сильным ничего. Встретив сильного, он не унимался до тех пор, пока не представлял его слабым.
Проще всего было достичь этого при помощи денег. У всех окружающих Сергей подстерегал мельчайшие проявления скаредности, а если охота была неудачной, то провоцировал или придумывал их.
Щедрость Довлатова была обременительной. В рестораны ходить с ним было сплошным мучением. За счет он дрался бешено, но горе тому, кто уступал право расплатиться.
Дело в том, что ничто не уродует так легко, как жадность. Скупость – сродни кожной болезни. Поскольку от нее не умирают, она вызывает не сочувствие, а брезгливость. Будучи не вполне полноценным пороком, она не рассчитана и на прощение – только на насмешку.
При этом Довлатова завораживала магия денег. Сергей говорил о них постоянно, да и писал немало – как Достоевский. Он и разбогатеть хотел, как мечтали герои Федора Михайловича: трах – и разбогател.
Довлатова поражала связь – конечно, окольная, а не прямая – денег с любовью. Он удивлялся привязанности денег к своим хозяевам. Сергей свято верил, что одни рождены для богатства, другие – для бедности, и никакие внешние обстоятельства не в силах изменить изначальную расстановку. Но главной для него была способность денег сделать всякого человека смешным.
У самого Сергея было сложное отношение к деньгам, потому что они, как ни крути, самый прямой эквивалент успеха. Между тем все герои Довлатова – неудачники.
Я хотел было исправить “героев” на “любимых героев”, но сообразил, что других у Довлатова и нету. Как раз жизненный провал и превращает отрицательных персонажей если не в положительных, то в терпимых. Аура неуспеха мирит автора со всеми. С функционером-редактором, у которого лопнули штаны, с майором КГБ, который пьет теплую водку, со стукачом-однокурсником, которого не любят девицы, ну и, конечно, с бесчисленными алкашами, людьми “ослепительного благородства”.
Что все это значит? Милосердие? Не уверен. По-моему, Довлатов смаковал провал. Для его мира всякое совершенство – губительно.
В сущности, это религия неудачников. Ее основной догмат – беззащитность мира перед нашим успехом в нем. И чем больше успех, тем страшнее последствия. Безошибочность сделала бы жизнь вообще невозможной. Представить себе только достигшую полного успеха коллективизацию, абсолютную расовую чистоту, безупречно работающую секретную полицию. “Уралмаш”, со стопроцентной эффективностью перерабатывающий окружающую среду в экскаваторы, был бы успешней атомной бомбы.
Единственная защита мира перед нашим неукротимым стремлением к успеху – несовершенство самой человеческой природы. Способность делать ошибки – встроенный в нас страхующий прибор. Ошибка не искажает, а дополняет мироздание. И в этом – метафизическое оправдание неудачи. Разгильдяйство, лень, пьянство разрушительны, а значит, спасительны, ибо, истребив пороки, мы остаемся наедине с добродетелями, от которых уже не приходится ждать пощады.
3
Довлатов прекрасно рисовал. Я никогда не видел, чтобы он рассеянно чертил каракули – даже на салфетке. Возможно, потому, что не доверял подсознанию. Лучше всего ему удавались шаржи – остроумные и точные. Все начатое завершено, рисунок аккуратно упакован в отведенный ему размер. Казалось, сама бумага его дисциплинировала (Сергей писал с черновиком не только письма, но даже записки в два слова).
Рисунки Довлатова ничем не отличаются от его прозы и именно потому не годятся в иллюстрации к ней. Больше всего книгам Сергея подходят рисунки “митька” Александра Флоренского, оформившего четырехтомник Довлатова. Попадание тут достигнуто тонким контрастом формы с содержанием: картинки сделаны так, как их бы нарисовал не автор, а его персонажи. Внешнее противоречие строгости и расхлябанности снимается мировоззренческим родством: “митьки” выросли на той же грядке.
Флоренский рассказывал, что решился принять заказ, только узнав, что они с Довлатовым пользовались одним пивным ларьком.
Стиль Флоренского напоминает инструкцию Сергея к изображению Карла Маркса: размазать обыкновенную кляксу – уже похоже. Главный герой рисунков Флоренского – линия. Жирная, ленивая – так рисуют окурком. Кажется чудесным совпадением, что в этих чернильных разводах мы всегда узнаем Довлатова и его героев – от Пушкина до таксы. Все они светятся невзрачным обаянием, внушая зрителю как раз ту снисходительную симпатию, которую привык испытывать читатель довлатовской прозы.
“Митьковская” живопись – отнюдь не наивное искусство. Напрасно мы будем искать у них инфантильную непосредственность. Примитивность их рисунка – результат преодоления сложности.
“Митек” – не простак, а клоун, который тайком ходит по канату. Манера “митьков” – па-де-де с “Солнцедаром”. Для чего, заметим, требуется уметь танцевать. Творчество “митьков” – эстетизация неудачи, художественное воплощение ошибки. Их философия – сокровенная медитация над поражением.
“Митьки” – национальный ответ прогрессу: не русый богатырь, а охламон в ватнике. Он непобедим, потому что его уже победили.
Полюбить “митьков” мне помогла картина, которую я купил у их идеолога Владимира Шинкарева. Из ядовитой зелени прямо на вас выходит растерянная корова. В ее глазах – не испуг, а туповатая безнадежность ни в чем не уверенного существа. Она не ждет помощи – она просто ждет, заранее готовая обменять знакомые тяготы жизни на незнакомые.
Хвастаясь приобретением американским знакомым, я перевел им название картины: “Коровушка заблудилась”. За чем последовал практический вопрос: “Ну а где же вымя?” Только тогда я заметил, что купил животное без половых признаков. Сперва я хотел потребовать, чтобы автор выслал вымя отдельно, но постепенно мне стала нравиться бесполая корова.
Ценитель Востока Шинкарев в нагрузку к картине приложил анекдот Чжуан-цзы. В нем рассказывается о непревзойденном знатоке лошадей, который не отличал жеребца от кобылы, ибо судил о сути, а не видимости. Корова без вымени, как душа без тела, – воплощенная эманация страха и трепета. Вырвав животное из природного контекста, художник нарисовал не корову, а то экзистенциальное состояние “заброшенности в мир”, которое нас с ней объединяет.
Впрочем, Шинкарев, как настоящий “митек”, наверное, просто забыл нарисовать вымя. И именно его ошибка придала картине завершенность.
4
Как у каждого движения, у “митьков” есть свой основополагающий миф. Это – миф об Икаре. Вопреки “прометеевской” трактовке, воспевающей дерзость человеческого гения, они создали себе образ трагикомического неудачника. Найдя такого героя у Брейгеля, они сложили про него митьковское хокку:
У Икарушки бедного
Только бледные ножки торчат
Из холодной воды.
Принято считать, что картина “Падение Икара” – притча о незамеченной трагедии. Непонятый гений, Икар погибает героической смертью, окруженный безразличием тех самых людей, которым он хотел дать крылья.
Художник действительно демонстрирует нам, как все не заметили падения Икара. На тонущего героя не смотрят не только люди – пастух, рыбак, моряки и пахарь, но и животные – лошадь, собака, четыре птицы и двадцать овец. Но это еще не значит, что все они не заметили происшествия – оно их просто не заинтересовало. Окружающие не могли не слышать плеска и крика. Однако неудача свалившегося с неба Икара им не казалась столь важной, чтоб перестать пахать, пастись или вытаскивать снасти.
Герои Брейгеля игнорируют не только Икара. Они и друг на друга не смотрят. На всех картинах Брейгеля люди не встречаются взглядом – и на пиру, и в танце. Даже пустые глазницы слепых глядят в разные стороны. У них нет ничего общего. В том числе – и общего дела. Брейгелевские персонажи не могут охватить взглядом и тот мир, в котором живут.
Целиком пейзаж способен воспринять только зритель – ему художник всегда дает высшую точку обзора. Наделяя нас птичьим зрением, он позволяет разглядеть сразу все – от былинки до гор, тающих за горизонтом.
Лишь зрителю доступен и смысл свершающейся трагедии, которую он не в силах предотвратить. Поместив зрителя над миром, позволив осознать причины и следствия всего происходящего в нем, Брейгель, в сущности, поставил нас в положение Бога, всемогущество которого равно лишь Его же беспомощности. Бог не может помочь Икару, ибо, исправляя ошибки, Он лишь приумножает их.
Падение Икара у Брейгеля происходит весной. То же солнце, что расплавило воск на крыльях Икара, пробудило природу. Что же делать? Отменить весну, чтобы спасти Икара?
Добро всегда становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. Не мудрость, не любовь – только безразличие природы способно решить это этическое уравнение.
Икара нельзя спасти. Его провал – не роковая случайность, а трагическая закономерность. Смерть Икара – не жертва, а ошибка, не подвиг, а промашка. И сам он не мученик, а неудачник. Изображая жалкую кончину Икара в “холодной зеленой воде”, Брейгель взывает не к состраданию, а к смирению. Воля и мужество требуется не для того, чтобы исправить мир, а для того, чтобы удержаться от этой попытки.
Помочь ведь вообще никому нельзя. Я всем это повторяю с тех пор, как Довлатов умер.
Щи из боржоми
1
“Я, сын армянки и еврея, – жаловался втянутый в публичные объяснения Довлатов, – был размашисто заклеймен в печати как эстонский националист”.
Надо сказать, он не был похож не только на третьего, но и на первых двух. Называя себя “относительно белым человеком”, Сергей описывал свою бесспорно экзотическую внешность обобщенно, без деталей – смутно упоминая средиземноморское направление, налегал на сходство с Омаром Шарифом.
Собственно национальность, и в первую очередь – своя, интересовала его чрезвычайно мало. Не то чтобы Довлатов вовсе игнорировал эту, столь мучительную для большей части моих знакомых, проблему. С национальным вопросом Сергей поступил как со всеми остальными – транспонировал его в словесность. Довлатов связывал национальность не с кровью, а с акцентом. С ранней прозы до предпоследнего рассказа “Виноград”, где появляется восточный аферист Бала, инородцы помогали Сергею решать литературные задачи.
Набоков говорил, что только косвенные падежи делают интересными слова и вещи. “Всякое подлинно новое веяние, – поучал он, – есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало”. Акцент был косвенным падежом, делающим “интересным” русский язык Довлатова.
Сергей писал настолько чисто, что язык становился незаметным. Это как с “Абсолютом”: о присутствии водки мы узнаём лишь по тяжести бутылки. Как перец в том же “Абсолюте”, акцент в довлатовской прозе не замутняет, а обнаруживает ее прозрачность. Успех тут определен точностью дозировки. Чтобы подчеркнуть, а не перечеркнуть правильность языка, сдвиг должен быть минимальным.
Сергей любил примеры удачной инъекции акцента. “Читатель, – уверял он, – никогда не забудет, что герой рассказа – грузин, если тот один раз скажет «палто»”. Но когда я спросил Сергея, как отразить на письме картавость, он ничего не посоветовал. Видимо, так – в лоб – изображать еврея казалось ему бессмысленно простым. Как сказано у Валерия Попова, плохо дело, если ты думаешь о письме, увидав почтовый ящик.
Зато “р” не выговаривает у Довлатова персонаж-армянин: “Пгоклятье, – грассируя, сказал младший, Леван, – извините меня. Я оставил наше гужье в багажнике такси”. От героев рассказа “Когда-то мы жили в горах” ждешь гортанного говора. Но Довлатов дразнит читателя, изображая не акцент, а дефект речи.
Кавказ спрятан у него глубже. Восточный оттенок создает не фонетика, а синтаксис:
“– Приходи ко мне на день рождения. Я родился – завтра”.
Плюс легкий оттенок абсурда:
“– Конечно, все народы равны. И белые, и желтые, и краснокожие… И эти… Как их? Ну? Помесь белого с негром?
– Мулы, мулы, – подсказал грамотей Ашот”.
Кстати, это рассказ-исключение. Его, на беду и журнала, и автора, напечатали в “Крокодиле”. В ответ пришло открытое письмо из Еревана. Группа академиков обиделась на то, что армян показали диким народом, жарящим шашлык на паркете.
Знакомый с кавказской мнительностью Бахчанян придумал издавать роскошный журнал исключительно южных авторов. Помимо самого Вагрича и Довлатова в нем печатались бы Окуджава, Искандер, Ахмадулина, Олжас Сулейменов. Называться журнал должен был “Чучмек”.
2
В Америке, как в загробном царстве, расплачиваются за грехи прошлой жизни. Поэтому тут мы на своей шкуре узнаём, что значит говорить с акцентом.
Однажды мы большой компанией, в которую входил и Довлатов, возвращались в Нью-Йорк из Бостона. По пути остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Несмотря на поздний час, я захотел супа и заказал его официанту, отчего тот вздрогнул. Тут выяснилось, что супа хотят все остальные. Так что я заказал еще четыре порции.
Официант опять вздрогнул и сделал легкий недоумевающий жест. Но я его успокоил: русские, мол, так любят суп, что едят его даже глухой ночью. Он несколько брезгливо пожал плечами и удалился, как я думал, на кухню.
Вернулся он минут через двадцать. На подносе стояли пять бумажных стаканов с густой розовой жидкостью, отдающей мылом. Познакомившись с напитком поближе, я убедился, что это и было жидкое мыло, которое наш официант терпеливо слил из контейнеров в туалетных умывальниках.
Только тогда до нас дошла вся чудовищность происшедшего. Мыло по-английски – “soap”, “соап”, а “soup” так и будет “суп”. Чего уж проще?! Но вместо того, чтобы не мудрствовать лукаво и заказать “суп”, мы произносили это слово так, чтобы звучало по-английски: “сэ-уп”. В результате что просили, то и получили: литра полтора жидкого мыла.
Говорят, что полностью от акцента избавиться можно только в тюрьме. Тем, кто не сидел, хуже.
3
Сергей не был ни на одной из своих исторических родин, но Кавказ его волновал куда больше Израиля. Все-таки он всю жизнь не расставался с матерью, которая выросла в Тбилиси. Сергей любил рассказывать, что в нью-йоркском супермаркете она от беспомощности переходит на грузинский. С нами Нора Сергеевна говорила по-русски, и ничего восточного в ней не было. Разве что побаивались ее все.
Особенно – гости. Сергей предупреждал, что мать презирает тех, кто не моет после уборной руки. Поэтому, собираясь в туалет, гости тревожно бормотали: “Пойти, что ли, руки помыть”. Я же, выходя, еще и усердно стряхивал воду с ладоней – для наглядности.
В довлатовских рассказах много историй Норы Сергеевны, в том числе и с кавказским антуражем. Сергей им особенно дорожил, но опять-таки из литературных соображений.
Обычной советской оппозиции “Восток – Запад” Довлатов предпочитал антитезу из русской классики – “Север – Юг”. Кавказ у него, как в “Мцыри”, – школа чувств, резервуар открытых эмоций, упрек тусклым северянам. “В Грузии – лучше. Там все по-другому”, – пишет он почти стихами в “Блюзе для Натэллы”, рассказе, напоминающем тост.
Важно, однако, что Юг у Довлатова, как на глобусе, существует лишь в паре с Севером. Их неразлучность позволила Сергею сразу и продолжать, и пародировать традицию романтического Кавказа:
“Одновременно прозвучали два выстрела. Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем – печальный и укоризненный голос Натэллы:
– Умоляю вас, не ссорьтесь. Будьте друзьями, Гиго и Арчил!
– И верно, – сказал Пирадзе, – зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?!
– Пожалуй, – согласился Зандукели.
Пирадзе достал из кармана «маленькую»”.
Юг у Довлатова нуждается в Севере просто потому, что без одного не будет другого. С их помощью Довлатов добивался своего любимого эффекта – сочетания патетики с юмором.
Эти, казалось бы, взаимоисключающие элементы у него не противостоят и не дополняют, а реанимируют друг друга. На таком динамическом балансе высокого с низким держится вся проза Довлатова. География делает этот структурный принцип лишь более наглядным:
“– Я хочу домой, – сказал Чикваидзе. – Я не могу жить без Грузии!
– Ты же в Грузии сроду не был.
– Зато я всю жизнь щи варил из боржоми”.
Стороны света служили Довлатову всего лишь симптомом сложности. Липовый кавказец, он и себя ощущал тайным агентом – то Юга, то Севера. У него в детективной повести и шпион есть соответствующий – овца в волчьей шкуре.
В другом месте Довлатова можно узнать в борце по имени Жульверн Хачатурян, получившем к тому же “на Олимпийских играх в Мельбурне кличку «Русский лев»”.
Патетика и юмор у Довлатова живо напоминают пару, упомянутую в “Фиесте”, – иронию и жалость. Я всегда знал, что Сергей внимательней других читал Хемингуэя.
Именно потому, что смешное не бывает высокопарным, их сочетание нельзя разнять – как полюса магнита, красно-синюю подкову которого мне хотелось распилить в детстве. Такую же невозможную операцию я пытался навязать Довлатову. Меня раздражали “жалкие” места, регулярно появлявшиеся в самых смешных рассказах. Довлатов сносил наскоки, ничего не объясняя.
Понять Довлатова мне помог Чехов, точнее – Гаев. Его монологи в “Вишневом саде” глубже других. Отдавая комическому персонажу сокровенные мысли, Чехов их не компрометирует, а испытывает на прочность. Мы можем смеяться над Гаевым, но в его напыщенной декламации – ключ к пьесе: “О, природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живешь и разрушаешь…”
Кстати, все это очень близко Довлатову, который спрашивал: “Кто назовет аморальным болото?” И сам себе отвечал шекспировской цитатой: “Природа, ты – моя богиня!” Не забывая тут же напомнить: “Впрочем, кто это говорит? Эдмонд! Негодяй, каких мало…”
4
Армянином Довлатову было быть интереснее, чем евреем. В русских евреях слишком мало экзотики. Однако эмиграция все-таки вынудила Довлатова выяснять свои отношения с еврейством.
Обычно бывает наоборот. Я, например, вспоминаю о своей национальности, только приезжая в Россию. Тут это по-прежнему актуально. И не потому, что евреев не любят. Однажды в Москве таксист посмотрел на меня внимательно и сказал:
– Все-таки преступная у нас власть. Сколько из-за нее евреев уехало! Как мы теперь с китайцами справимся?
– А евреи как справятся?
– Мне откуда знать, – вздохнул таксист, – я же не еврей.
В другой раз на рынок зашел. Спрашиваю у бабушки, откуда молоко. Из Рязани, говорит. Я умилился: моя, мол, родина.
– Не похож, – отчеканила в ответ старушка.
В России евреем быть проще, чем в Америке. За океаном все быстро забывают о национальном вопросе. В моем городке, скажем, много и армян, и турок. Я часто вижу, как они толкутся в одной ближневосточной лавке – их примирила бастурма. А в соседнем городе есть хорошая футбольная команда, вся – из югославов: и сербы тут, и хорваты, и боснийцы.
Евреи тоже мало кого волнуют. Только к нашим эмигрантам все это не относится. Евреи для русской Америки – всегда тема. Причем для многих если тема – не евреи, то это и не тема. Есть у меня знакомый, который сразу отходит, когда говорят не о евреях. Я сам слышал, как он отстаивал версию инопланетного происхождения иудейского племени. Довлатов в одном письме о нем отзывается с удивлением. “Он, – пишет Сергей, – глуп почти неправдоподобно для еврея”.
В Америке Довлатов сперва пытался если и не стать, то казаться евреем. Раньше он туманно писал, что принадлежит к “симпатичному национальному меньшинству”, теперь уверенно упоминал обе половины. Сергей даже пытался изображать национальную гордость: “Мне очень нравилась команда «Зенит», – слегка льстил он читателю, – потому что в ней играл футболист Левин-Коган. Он часто играл головой”.
На самом деле Довлатову было все равно. “Антисемитизм – лишь частный случай зла, – писал он, – я ни разу в жизни не встречал человека, который был бы антисемитом, а во всем остальном не отличался бы от нормальных людей”.
Национальная индифферентность Довлатова не помешала ему возглавить “Новый американец”, который в силу категорически не оправдавшихся коммерческих надежд носил диковинный подзаголовок “Еврейская газета на русском языке”.
Я до сих пор не знаю, что это значит. Сергей тоже не знал, но объяснял в редакторских колонках:
“Мы – третья эмиграция. И читает нас третья эмиграция.
Нам близки ее проблемы. Понятны ее настроения. Доступны ее интересы. И потому мы – еврейская газета”.
Силлогизм явно не получался. Тем более что советские евреи – еще те евреи. “Креста на них нет”, – говорят на Брайтоне о соседях, не соблюдающих пост в Йом-Кипур.