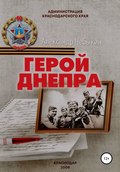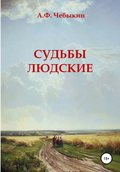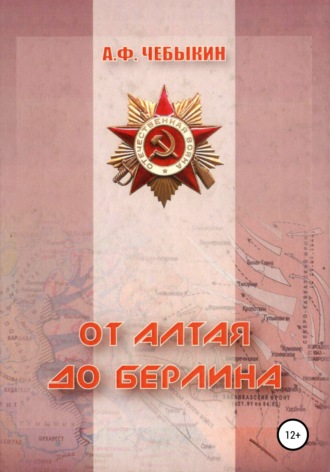
Александр Федорович Чебыкин
От Алтая до Берлина
«Всегда впереди»
Январь 1945 года. Зимние школьные каникулы. Народ чувствовал – войне скоро конец. Фашизм издыхал. Но радость приближения Победы омрачалась печалью.
В большое сибирское село Любомировка, вытянувшееся вдоль речки Иртыш, продолжают приходить похоронки. То в одном, то в другом конце села слышен плачь. Подростки бегают по коридорам военкомата, просятся отправить их на фронт. Со слезами на глазах упрашивают военкома, чтобы выписали повестку именно ему, потому что он должен отомстить за отца. Другие, кучкуясь группами, доказывали, что комсомольцы их класса обязаны защищать Родину – они ворошиловские стрелки, сданы нормы ГТО и ПВХО.
Комсорг школы Дмитрий Щербина убеждал, что осенью ему по закону положено призываться, лучше сейчас, пока война не кончилась. Просился направить в ту часть, в которой воюет его старший брат, он успеет рассчитаться за трех братьев, погибших под Москвой, в Сталинграде и при форсировании Днепра. Военком разъяснял ему, что после окончания 10 класса его обязательно отправят в военное училище, а войны на его век хватит. Наконец военком согласился и попросил досрочно сдать экзамены, экстерном.
В школе к пожеланию Димы отнеслись с пониманием. На протяжении десяти лет по всем предметам у Димы было отлично, кроме химии. Преподаватель химии, на просьбу директора поставить Диме пять, ответил: «Не могу – это будет против моей совести». Двухмесячные курсы младших командиров и в начале апреля 1945 года сержант Дмитрий Щербина, командир 76-мм орудия, бьет прямой наводкой по бастионам Кенигсберга.
Над городом висели наши бомбардировщики ПЕ-2, летали юркие штурмовики. В воздухе было полное превосходство нашей авиации. Артиллерия неприятеля была подавлена огневой мощью наступающих войск.
Фашисты пробовали делать вылазки, но их контратаки были безуспешными. После взятия Кенигсберга часть перебросили на Западную Украину. Командир части поставил задачу: «Будем бороться с бандами националистов, которые мешают устанавливать советскую власть, препятствуют передислокации наших войск». Дмитрий был избран комсоргом дивизиона. Переживал, что не участвовал в штурме Берлина и не расписался на стенах Рейхстага.
Полк действовал в условиях лесистой местности. Дивизионы и батареи придавались пехотным батальонам и отдельным ротам. Каждый день по несколько раз приходилось менять дислокацию. Казалось, вот наконец уничтожена крупная банда, но через день в этом же месте неожиданно появлялась новая.
Дмитрий мотался из батареи в батарею. При разобщенности полка страдали тыловые подразделения, зачастую попадая в засады.
В конце сентября 1945 года полку была поставлена задача прикрыть воинские эшелоны с демобилизованными воинами, возвращающимися на Родину. Батареи дивизиона были приданы ротам, которые прикрывали направления появления бандитских групп. Заместитель командира полка по огневой подготовке и комсорг дивизиона Дмитрий Щербина на двух джипах поехали с проверкой боеготовности своих подразделений. Не доезжая станции Сосновка машину, в которой ехал Дмитрий, взрывной волной от мины подбросило и швырнуло на обочину. Из леса раздалось несколько автоматных очередей и смолкло. Подбежали солдаты сопровождения, помогли выбраться из машины. Контуженный начальник огневой подготовки приказал занять оборону, но кругом была тишина. Дмитрий видел, слышал, но ноги не двигались. Ломило спину, было ранено лицо. Подбитую машину вытащили на дорогу, сняли верх, загрузили контуженных шофера и Дмитрия, подцепили и потащили.
Три месяца Дмитрий Щербина провалялся в госпитале. Демобилизовали по болезни. Приехал в родное село, пошел учиться. После учебы пригласили работать в райком на должность второго секретаря, а в 1953 году снова призвали в армию.
Молодой, высокий, русоголовый, с задиристым характером лейтенант Щербина по долгу службы комсомольского работника часто бывал в городе.
Как-то в коридоре городского суда увидел рослую, кареглазую, миловидную девчонку. Спросил у знакомых: «Кто она?»
Ответили, что это старший районный следователь. Дмитрия заинтриговало. Такая тоненькая, хрупенькая, и следователь по особо важным делам. На другой день забежал специально и два часа простоял у дверей кабинета, выжидая, когда она выйдет. А когда вышла – Дмитрий растерялся: покраснел, потупился. Казалось, что пол вот-вот уйдет из под ног. Увидев смутившегося лейтенанта, она спросила: «Вы к кому, наверное, кого-то ждете?» Белесый чуб взмок, плечи опали, зрачки серых глаз расширились, рот приоткрылся, но слова застряли где-то в горле. Нежным бархатистым голосом пригласила: «Пожалуйста заходите, я тут одна». Дмитрий промямлил: «Извините, я вчера в каком-то кабинете папку оставил».
– Постойте минутку, а я пробегу по кабинетам, поспрашиваю, все-таки следователь по особо важным делам, – и засмеялась.
Дмитрий понял – это его судьба. И снова заклинило. Капельки пота покатили за ворот.
– Да Вы совсем растерялись, товарищ лейтенант. Не волнуйтесь, я хорошо знакома с военными, мой папа, сколько помню, при погонах.
Когда сказала, что папа военный, Дмитрий встрепенулся, подтянулся. Приложил руку к фуражке и отрапортовал:
– Лейтенант Щербина, секретарь комсомольской организации дивизии. Как Вас звать?
–Аля.
– Такая должность и такое короткое имя
Зато отчество что надо – Никаноровна.
Дмитрий улыбнулся.
Можно Вас пригласить в кино?
Можно, а почему так скоротечно, а если я замужем?
Слишком красивые и умные замуж не торопятся.
Вы что, хотите предложить руку и сердце?
– А почему бы и нет. Вы на выданье, а я старый холостяк, свободный сокол.
Аля лукаво улыбнулась, чем снова смутила Дмитрия. Ответила:
– Старый – не старый, Вы мне симпатичны.
Опоздал в поисках невесты. Маленько воевал, потом учился и не заметил, как тридцатник разменял.
Извините, отпускаю Вас, очень много работы, иначе в кино опоздаем.
Через три месяца в части гуляли свадьбу. Аля, дочь профессора математика Свердловского госуниверситета, начала путешествовать с мужем по белу свету: Забайкалье, Урал, Германия. Оба стремились к знаниям. Алла Никаноровна защитила диссертацию при Свердловском госуниверситете, а Дмитрий защитился в Германии на немецком языке. В первенце, дочурке Елене, души не чаяли. Елена росла смышленой, шустренькой, рано проявила музыкальные способности.
Дмитрий радовался – мамина дочка. Аля на офицерских вечеринках была душой компании. Прекрасно играла на пианино, пела, шутила. Одним словом, «заводила». От частых переездов, смены климата, житейских неудобств Алла не смогла больше рожать.
Дмитрий Григорьевич заместитель командира полка по политчасти, Алла Никаноровна старший следователь области по особо важным делам. Десять лет проработал полковник Д.Г. Щербина заведующим кафедрой при военном училище им. Штеменко в г. Краснодаре.
После окончания службы Дмитрия пригласили на работу в Кубанский госуниверситет на кафедру научного коммунизма. Ветераны избрали его заместителем председателя Совета ветеранов, а с 1998 года председателем. Накопленный опыт работы с людьми в армии пригодился в университете. Талант организатора и воспитателя был востребован. По своей неспокойной натуре Дмитрий Григорьевич старался вникнуть в проблемы ветеранского движения. На Советах ветеранов просил: «Не встретили меня днем, звоните вечером, если меня нет дома, то передайте сообщение Алле Никаноровне. Она владеет полной информацией и немедленно сообщит мне».
Время не остановить. Стареют ветераны. Уходят из жизни те, которые ковали победу и те, которые ее завоевывали. Дмитрий Григорьевич в штате кафедры политологии читает лекции на нескольких факультетах. Ушла из жизни его верная подруга, товарищ и помощница Алла Никаноровна. Председатели Советов факультетов и кафедр потеряли умнейшую, интеллигентную женщину, которая всегда могла дать совет как профессиональный юрист, была в курсе дел университетской ветеранской организации. Дмитрий Григорьевич глубоко переживает утрату, время не в силах сгладить потерю любимого человека.
Совет ветеранов всячески поддерживает своего председателя. С утра до вечера к Дмитрию Григорьевичу десятки звонков: об оказании материальной помощи, закупке лекарств, квартирные проблемы, вопросы трудоустройства, семейные неполадки.
Все нити жизни ветеранов сходятся к председателю. В университете есть профком, но согласно Положению, профком занимается только с работающими сотрудниками. Перестал трудиться – идти в соцзащиту, но человек прикипел к коллективу университета, и он находит защиту в Совете ветеранов. Дмитрию Григорьевичу эта работа по душе. Ноша нелегка, но другого человека на этом месте мы не видим. Дмитрий Григорьевич установил деловой контакт с председателем профкома.
Самое тяжкое бремя для председателя – это отправлять ветеранов Великой Отечественной войны в последний путь. Многим ветеранам за восемьдесят. Дмитрию Григорьевичу не безразлична судьба каждого ветерана. Одной из основных задач своей деятельности Дмитрий Григорьевич считает воспитание подрастающего поколения на любви к Родине, преданности Отечеству, знании истории государства. В своей пропагандистской работе использует достижения науки, техники, литературы советского периода. Дмитрий Григорьевич сумел создать сплоченную работоспособную команду. Первым его заместителем является участник десанта при форсировании Днепра, полковник Давыдов Николай Николаевич – это смелый, мужественный и энергичный ветеран, который постоянно находится в массе студентов. Формирует в их сознании такие черты характера, как-то: честность, порядочность, инициатива, взаимовыручка и товарищество.
Основной опорой в ветеранской работе для Совета ветеранов является ректор университета Бабешко Владимир Андреевич. Не было ни одного случая, чтобы он отказал в какой-нибудь просьбе ветерана. Ветераны преклоняются перед ним и приносят ему слова благодарности.
Жизнь свела меня с Дмитрием Григорьевичем в восьмидесятые годы прошлого века. Его теплоту, внимание и заботу о людях, беспокойство о судьбах Родины я почувствовал, когда стал секретарем Совета ветеранов университета. Мы делимся друг с другом горестями и радостями. Я вправе могу сказать от имени ветеранов: «Дорогой наш человек, председатель совета ветеранов Кубанского госуниверситета, Дмитрий Григорьевич, спасибо Вам за Ваш труд».

Отвага
Воронеж
Меньше и меньше остается активных участников Великой Отечественной войны, в первую очередь фронтовиков – пехотинцев. Старики рассказывают: две три – атаки, особенно в первый период войны, когда не было ни авиационной, ни артиллерийской поддержки, от роты оставалась одна треть, остальные или убитые или раненые. Фашистские летчики тогда издевались над нами, отбомбившись и расстреляв боезапас, могли спокойно пройти на бреющем, над вжавшимися в землю бойцами, и насмехаться над ними.
Дмитрий это ощутил на себе летом 1942 года. Часть находилась во фронтовом резерве. Расположились в поле. Стали окапываться, налетели фашистские самолеты и начали расстреливать пехотинцев с бреющего полета. А отвечать нечем. Полк не вооружен. Только у командного состава наганы. Дмитрий видел, как фашисты расстреливали табун полковых лошадей, рядом у бойца от прямого попадания разорвало грудь. Страха не было, а наступило какое-то исступление. Через некоторое время часть вооружили, выдали солдатам винтовки образца 1891 года, по две гранаты РГД и каску. Потренировали неделю и срочно перебросили под Воронеж, в городе шли жестокие уличные бои. Граница проходила по реке Вороне. Полк был довооружен и доукомплектован, согласно штатному расписанию. Было приказано занять оборону вдоль реки. Немцы были на возвышенности и сверху хорошо просматривалась наша линия обороны.
Окопы и ходы сообщения рыли на полную глубину. Наиболее трудные дни были в период с 28.06. по 24.07.1942 года. Гитлеровцы атаковали каждый день, с целью отвлечь наши силы с южного направления, куда враг наносил основной удар, внушить советскому командованию, что они в этом году снова будут наносить главный удар на Москву с юга, через Воронеж.
Каждый день сотни фашистских стервятников появлялись над окопами, затем около часа длилась артподготовка, следом фашисты, накачанные шнапсом, шли в атаку. Командир взвода лейтенант Косищев кричал: «Без команды огня не открывать!». Подпускали метров на двести и вели залповый огонь, фашистов, подбежавших к окопам, забрасывали гранатами, в нишах их было предостаточно.
Дмитрий за эти дни вытянулся, пухленькие щеки опали, крупный нос стал четко выделяться на лице. В глазах появилась усталость и тоска. Дмитрий не успевал познакомиться с товарищами по окопу, как они исчезали. К вечеру окопы оголялись. Ночью приводили пополнение. До утра надо привести в порядок разрушенные и осыпавшиеся окопы. Лейтенанта Косищева берегла какая-то небесная сила. Утром, проходя по окопу в начищенных сапогах и свежеподшитым подворотничком, спрашивал Дмитрия: «Ну как, старожил, жив и невредим … Кажется, мы с Вами заговоренные». В конце июля бои утихли.
Началась позиционная война, немцы строго по расписанию в 8.00 проводили минометный обстрел наших позиций, потом короткий артналет и тишина до вечера. Обстрелы были продуманы и выверены. Поэтому наносили определенный урон. Наблюдатели успевали засечь огневые точки, и наша артиллерия накрывала их, быстро меняя свои позиции. Противник знал об этом и ответного огня не открывал.
Как только в ноябре 1942 года было замкнуто кольцо окружения, 6-я армия противника оказалась в котле, Воронежский фронт пришел в движение. Его задача – отвлечь фашистские силы от деблокации и очистить Воронеж от фашистов.
16 декабря 1942 года после мощной артподготовки Воронежский фронт перешел в наступление. Саперы под прикрытием артиллерии быстро навели переправы, благо река Ворона в черте города была невелика. Отделению Дмитрия была поставлена задача помогать артиллеристам тащить 45-мм пушку в гору. Пробежали метров сто кверху, по ним хлестанул крупнокалиберный пулемет. Пехотинцы попадали в снег. Расчет быстро изготовили к стрельбе. Два выстрела и пулемет замолк. Лейтенант Косищев подал команду: «В атаку, за мной. Ура!» А а а а а быстро смолкло, в гору бежать в полной боевой экипировке было тяжело. Когда выскочили наверх, в городе уже шел бой. Другие части опередили их, поступила команда очистить город от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы оказали мощное сопротивление, атака за атакой захлебывались. Из подвалов, чердаков, из окон был такой плотный огонь, что невозможно было поднять головы. Земля промерзла, не окопаешься. Неся потери, бойцы полка до темноты пролежали в снегу на тридцатиградусном морозе. Вечером поступил приказ – часть отвести на переформирование.
Котлубань
В январе 1943 года часть пополнилась личным составом. Переобмундировали по-зимнему: валенки, ватные штаны, фуфайки, шинели, зимние шапки с клапанами-ушами, маскхалаты, вместо винтовок – автоматы ППШ. Объявили, что они будут добивать фашистов окруженной группировки. Учили ползать по глубокому снегу, стрелять из автомата по цели с положения лежа, с колена, на бегу. Прошли комсомольские и партийные собрания. Решение было одно: добить врага в котле и освободить родную землю. Дмитрий подружился с молодым узбеком, как оказалось, бригадиром хлопководческой бригады Сулейманом Ибрагимовым. Говорил по-русски слабо, часто путал слова. Бойцы смеялись, Дмитрий защищал его от насмешек. Спали рядом. Сулейман не отставал от Дмитрия ни на шаг. Молодые воины знали, что у Дмитрия полугодовой опыт войны.
Дмитрия в роте прозвали «Москвич». Просили: «Москвич», узнай то-то, попробуй достать это, даже лейтенант Косищев проникся к нему уважением за его находчивость и смекалку.
В начале января 1943 года полк был переброшен на станцию Грязи. И дальше своим ходом на Сталинград, с целью нанесения удара по гитлеровским частям, которые стремились деблокировать остатки полуразгромленной 6-й армии. Двигались только ночью. Сухой паек состоял из сухарей и воды, которую с трудом добывали из промерзших колодцев. Валенки были заводского производства, твердые и негнущиеся, и натирали кровяные мозоли. Ноги уставали.
Мороз щипал нос. Слезились глаза. Хотелось упасть и уснуть. Но надо было идти через не могу. Старший лейтенант Косищев был назначен командиром роты. По ходу движения подбадривал солдат, большинство были новички. Частенько подходил к Дмитрию и спрашивал: «Ну как, старина, – а старине двадцать лет, – выдюжим?» Дмитрий, смотря на обмороженное лицо и воспаленные глаза командира, отвечал: «Выдюжим, товарищ старший лейтенант, народ ждет от нас разгрома врага». Вышли под Котлубань. Приказали окопаться. Сообщили, что навстречу им движется дивизия «СС» с намерением разорвать кольцо окружения. Поступил приказ: «Любой ценой задержать врага». Кое-как в мерзлой земле вырубили окопы по грудь. О ходах сообщения и не было речи. Орудейные расчеты успели заготовить ниши для снарядов и небольшие укрытия от налета авиации. Ввиду того, что полк передвигался только ночью, ни разу не попали под бомбежку. При новой дислокации полк быстро маскировался, засыпая снегом свежевыкопанные холмики земли. Утром наблюдатели доложили: «Колонна противника приближается». Командир полка передал: «Никакой демаскировки». Когда до колонны оставалось метров пятьсот, ударили полковые минометы и пушки. Колонна рассредоточилась. Фашисты вызвали авиацию. После трех заходов штурмовиков и обстрела артиллерии и минометов, полк понес ощутимые потери. Была выведена из строя половина полковой артиллерии. Потери личного состава были незначительны, пехота хорошо замаскировалась, хотя и не глубоки были окопы, но они спасали от осколков. Фашисты шли в атаку плотными рядами, рассчитывая на быструю победу. Командир полка постоянно передавал: «Огня не открывать, подпустить фашистов на сто метров. Беречь боезапас, тылы еще не подошли. Израсходуем боезапас, следующие атаки отбивать будет нечем. Расстреливать в упор, забрасывать гранатами». Первая атака фашистов захлебнулась, сотни трупов лежали на снегу. Дмитрий видел, как разрывная пуля попала соседу в голову. Это было страшно. Каска отлетела в сторону. Мороз под сорок. Фашисты на голом снегу промерзли. Во вторую атаку поднимались неуверенно и после плотного ответного огня побежали. Наши бойцы улюлюкали, свистели им в след, но преследовать было нечем. Боезапас кончился. Дмитрий еле вылез из окопчика, где вел огонь, стоя на коленях. Ноги онемели. Разведка донесла, что дивизия «СС» грузит раненых и убитых на машины, строится в колонны и отходит. Командование полка вызывало авиацию, но ни один самолет не догонял отступающую колонну дивизии «СС».
Авиация была задействована на разгроме танковой армии Манштейна. Полк отвели. В ночь с 19 на 20 января 1943 года полк выдвинулся на рубеже между Гумраком и разъездом Конный. Поступила команда: «Окопаться, рыть окопы в полный профиль». Земля промерзла глубоко. От лопатки летели искры. Уставшие и изможденные бойцы засыпали на коленях, долбя окаменевшую землю. Командир роты ходил и требовал: «Не спать, надо двигаться, иначе замерзнете заживо. Утром встречный бой, разогреетесь».
На рассвете туманного утра разведка сообщила, что впереди на их участке в эшелонированной обороне венгерские части. Кольцо вокруг рассеченной группировки противника сжималось. Гитлеровские союзники знали это. Моральный дух был сломлен. Тем не менее венгерское командование решило атаковать только что прибывшую воинскую часть, рассчитывая, что она не успела хорошо закрепиться. Наблюдатели доложили, что венгры готовятся к атаке.
Командир части полковник Свиридов передал по батальонам: «Противник готовится к атаке, это лучший вариант для нас, атаку отбить и на спинах противника ворваться в его окопы, рассечь противника и соединиться с нашими частями». После короткой артподготовки, на большее у противника не было боезапаса, гитлеровцы пошли в атаку. Впереди ровная без единого кустика степь. Расстояние около восьмисот метров. Такая атака смерти подобна, заранее предрекаемая на провал, но чьи-то приказы гнали венгров на верную гибель.
Ударила дальняя артиллерия, следом полковые пушки и минометы. Поле покрылось султанами разрывов. Вражеские солдаты падали как снопы, подгоняемые офицерами, некоторые вставали и бежали вперед. Когда до противника оставалось метров сто пятьдесят, ротный подал команду: «Огонь!». Передние ряды фашистов падали как подкошенные, сзади на них напирали другие. Гитлеровцы подтянули крупнокалиберные пулеметы. Стреляли трассирующими, пули летели так густо, что рябило в глазах. Командир полка передал приказ: «Роте автоматчиков с полным боекомплектом выдвинуться вперед». Когда до фашистов оставалось с десяток метров, командир батальона прокричал: «Батальон, в атаку!» От интенсивного огня автоматчиков фашисты повернули назад, не побежали, а отходя продолжали вести огонь.
Дмитрий видел, как падали слева и справа его товарищи однополчане. Если в окопах за рекой Вороной Дмитрий не видел, как погибают бойцы, так как находился в своей огневой ячейке и вел огонь по противнику, по сторонам смотреть было некогда, то здесь видел, как впереди разорвало миной командира отделения сержанта Непотребко Ивана. В этот же момент он услышал вскрик своего товарища Сулеймана Ибрагимова и почувствовал, как подкосилась правая нога, потемнело в глазах, но сознание работало четко: «Что с Ибрагимовым?» Дмитрий увидел, как у друга, через дырки валенка, пробивалась кровь. Крикнул: «Сулейман, потерпи!». Наклонился и стал поднимать его. Ибрагимов был без сознания. Подбежал санитар, спросил: «Москвич, что тут у вас случилось? А ты чего такой бледный и стоишь на одной ноге. Ну-ка посмотрю; да у тебя, брат, полваленка крови, коленная чашечка пробита пулей». Санитар завалил Ибрагимова себе на спину и потащил, крикнув: «Держись за ремень, оставаться тут нельзя, замерзнешь!». И троица поплелась к балке, куда собирали раненых. Ибрагимова и еще двух тяжело раненых солдат загрузили на сани – розвальни.
Возница, женщина лет сорока, закутанная в пуховую шаль, попросила: «Маленько двигайся, хватайся за облучок и тронулись, молено в сани, но от потери крови в них околеешь, довезу ли этих живых – не знаю, видишь, какой морозище». Дмитрий видел, как в сторону противника полетели десятки ракет-снарядов. Сгоряча сплюнул и подумал: «Где же вы раньше были, не погибло бы столько наших ребят».
После первичной обработки раны около поселка Качалино в полевом госпитале на морозе, Дмитрия и остальных раненых отправили в город Камышин. В госпитале Камышина хирург, осмотрев ногу, сказал: «Будем отрезать выше колена, для гарантии, чтобы не началась гангрена, таков приказ». Дмитрий со слезами на глазах стал упрашивать, объясняя, что он еще повоюет, а на одной ноге кому он нужен? Разговорились, оказалось, что с доктором оба москвичи, жили рядом в Благовещенском переулке. Хирург уступил просьбам земляка. Через неделю в его палату привезли на каталке раненого бойца. Двое выздоравливающих бойцов, из соседней палаты, подняли небольшой обрубок и положили рядом на свободную кровать. Приглядевшись, Дмитрий узнал своего товарища Сулеймана Ибрагимова. Подошел, уткнулся ему в плечо и заплакал: «Сулейман, прости меня!»
«За что прощать, ты как настоящий боец, не бросил меня в бою, передал санитарам. Раны были излечимы. На одной ноге кость перебило, а на другой сквозное ранение. Пока везли, я ноги отморозил. Хорошо, что ты через не могу, а шел, а то бы тоже потерял ногу». Сулейман не психовал, смирился со своей судьбой. Улыбаясь рассказывал раненым: «Родные радуются, что живой, а то в пол аула пришли похоронки. Пишут, что всем аулом будут ухаживать за мной. Зачем ухаживать – руки есть. Я гончар, кувшины делать буду. К ногам ходули приделаю – по аулу ходить буду. Невеста сообщает, что ждет».
Через три месяца в палату вошли три женщины. С радостью бросились обнимать Сулеймана. Сулейман с гордостью говорил, показывая на пожилую женщину: «Это моя мама!» На раскрасневшуюся красавицу: «Это младшая сестра», а на девчушку лет шестнадцати, стыдливо прикрывающую глаза рукой, вторую руку он держал у сердца: «Это моя невеста. Благословите, ребята – пусть с сегодняшнего дня будет женой».
Когда увезли Сулеймана, раненые загалдели, говорили: «Святые люди!» Кто-то с обидой сказал: «Рядом в палате с начала войны такой же обрубок лежит – русский богатырь, моряк. Жена отказалась, а сыну всего четыре года. По сыну очень скучает, поэтому и раны долго не заживают, а у Сулеймана раны затягивались быстро, даже главный хирург удивлялся. Это потому, что он знал – его ждут».
Командир роты капитан Косищев письмом сообщил, что Байль Дмитрий Павлович за бои на реке Вороне награжден медалью «За Отвагу», он сейчас командует батальоном, часть направляется в сторону Орла. В госпитале Дмитрий изнывал от безделья. Вооружившись костылем, обходил палаты. Перезнакомился с бойцами и командирами. Кость заживала плохо, было задето сухожилие. Дмитрий видел, как молодые крепкие парни страдали по дому, по друзьям, оставленных в частях. Предложил создать госпитальную самодеятельность.
Обратился к начальнику госпиталя. Она обрадовалась и дала добро. Нашлись режиссеры, певцы, артисты профессионалы.
Через месяц госпиталь пел и плясал. Придумывали небольшие скетчи. По субботам большой длинный коридор походил на театр. Лишний стул некуда было поставить. Выздоравливающие стали ездить с концертами на фабрики, заводы, в школы. Начальник госпиталя, миловидная женщина, всячески старалась отодвинуть выписку Дмитрия. Дмитрия стала мучить совесть. Ребята, подлечившись, отправлялись на фронт. Началось освобождение Украины. Ему шутя, а порой и с издевкой говорили: «Ну, мы пошли Европу освобождать, а ты давай сестричек весели». Дмитрий пошел к руководству госпиталя и потребовал: «Выписывайте, мне стыдно перед бойцами, руки целы, автомат удержу, значит и воевать могу, иначе самовольно отправлюсь на фронт». По дороге в часть решил заехать домой, но подумал: «Время строго ограничено, опоздаешь в часть, можно попасть под трибунал». Он помнил и видел, как под Сталинградом расстреливали дезертиров. Это было сильнее приказа «Ни шагу назад». В поезде Дмитрий встретился со старшиной, который возвращался из госпиталя в часть. Старшина уговорил Дмитрия поехать вместе с ним. Просил не беспокоиться, командир примет его обязательно, как побывавшего в Сталинградской битве. Отобьет телеграмму в штаб фронта, чтобы не искали. Попутчик, старшина Семен Белов, был из-под Москвы, деревенский парень. До призыва работал лесником. Был призван в финскую, но повоевать не пришлось, пока проходил курс молодого бойца, война кончилась, после года службы командир батальона за крестьянскую хватку назначил его старшиной роты. С начала боевых действий старшина Белов обеспечивал и группу полковых разведчиков. Подружился с ними. Еле-еле упросил командира перевести его в разведвзвод.
Белов года на два был старше Дмитрия. Высокий, поджарый, с голубыми глазами, ямочками на щеках и льняной челкой больше походил на невесту на выданье, чем на разведчика. Тем не менее до конца службы у них завязалась крепкая дружба. Семен был стеснительный, не всегда мог постоять за себя, но в поиске он мгновенно преобразовывался, становился первобытным лесным человеком, у него резко обострялись зрение, слух, обоняние. Он за несколько метров слышал запах фашистского табака, даже запах немецкой одежды. Мог различить по запаху смазки – наше или немецкое оружие. Феномен да и только. Разведчики без него никуда. Так и воевал Семен Белов в звании старшины рядовым разведчиком.