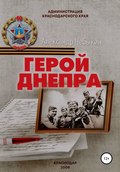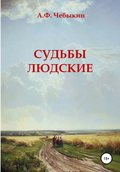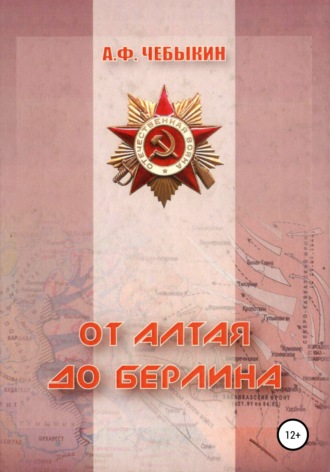
Александр Федорович Чебыкин
От Алтая до Берлина
Взвод разведки
Часть стояла под городом Мстиславлем. Летняя погода сменилась на протяжные осенние дожди. Старшина Белов быстро уговорил командира полка Сидорова. Командир полка в разведчики подбирал лично, проводил основательное собеседование.
Дмитрий увидел перед собой человека среднего роста, гладко выбритого, подтянутого, в свежевыстиранных солдатских брюках и гимнастерке, с длинными темно-русыми волосами, которые он то и дело поправлял пятерней. Глаза лукаво улыбались. На груди четыре ордена Красного Знамени. Дмитрий несмело доложил и уставился на ордена. Командир это заметил и сказал: «Свои, свои – заслужил. Первый – за гражданскую, второй – за Хал Хин Гол, третий – за финскую, а четвертый – за оборону Москвы. Не кадровый я, до боев на Хал Хин Голе завсельским клубом был, одновременно режиссером драмкружка, диррокером струнного оркестра. Хотелось на знаменитостей походить, вот и волосы отрастил, а сейчас срезать жалко. Перед войной была мода – высокие начальники стриглись под ноль, а то и брились. Жена сказала, комолого домой не пустит. Надеюсь выжить, победить и вернуться. Удивляешься, что орденов много и воевал долго, а все в командирах полка хожу. Предлагали на дивизию. Это не по мне, чтобы дивизией командовать, надо хорошие военные знания иметь. А у меня образование 10 классов и техникум культпросвет работы. Вас наверное удивило, что в красноармейском обмундировании. Оно из хлопка, в нем тело свободно дышит. Не будешь же митинг собирать и о себе рассказывать. Рассказал вам с Беловым, а через неделю весь полк узнает, кто такой Спиридон Прокопьевич Сидоров». Вызвал старшину разведвзвода Иосифа Рачкова, длинноногого, с коротким туловищем и мощными руками клещами. Тихо сказал: «Старшина, вот юноша просится к вам в разведчики, боец бывалый, да и Белов за него ходатайствует. Присмотритесь, научите тонкостям разведки, пусть месяц-два пообкатается, только потом на задание. Парень вроде смышленый, грамотный, на то он и москвич».
Две землянки разведчиков располагались рядом. Дмитрий зашел в большую землянку. По бокам широкие нары, сбитые из подручного материала. На противоположной стене школьная карта западной части Советского Союза, от Прибалтики до Урала, утыканная красными флажками. Сбоку карты висела большая концертная гитара. На столе телефон, лампа семилинейка, подсвечники. На задней стене, на вбитых крючках, висели автоматы, винтовки, противогазы, снаряжение и одежда. Вокруг стола сидели шесть человек и разбирали немецкую противотанковую мину. Бойцы увидели входящего Белова, повыскакивали, разом загалдели: «Семен, вернулся! Слава Богу. Мы истосковались».
Долго тискали. На Дмитрия вначале не обращали внимания. Кто-то спросил Белова: «Семен, это что, новичок?» «Новичок, новичок. Стреляный воробей. В Сталинградской битве крестился. Я за него ручаюсь». «Ну если ты ручаешься, то берем к себе на котловое довольствие».
Попросили рассказать о себе. Дмитрий охотно поделился, что он недоучка культпросветработник. Пошел служить в 19 лет. Отчим военный, мать секретарь-машинистка в Наркомате. Есть сестра, живет в Москве. Маленько воевал, ранен. Вошел высокий, слегка осунувшийся красавец, старший лейтенант, темно-русые волосы выбивались из-под пилотки. Старшина скомандовал: «Стать, смирно!». Дмитрий представился. Потекли боевые будни. Командир полка частенько наведывался к разведчикам, интересовался, как осваивается новичок.
Дмитрий быстро перезнакомился с товарищами, не гнушался любой работы, порой сам проявлял инициативу. Разведчиков в полку знали многие, они считались элитой доблести и геройства, в них было что-то таинственное, ведомое только им одним. Дмитрий приглядывался к новым друзьям.
Толя Васильев – его ровесник, старший сержант из Башкирии, серые глаза смотрели озорно, подтянут, смекалист, разведчик от рождения. Курбан Абдурахманов – здоровый, высокий, неуклюжий, но силищи неимоверной. Лом сгибал, как ивовый прутик, без особого напряжения. Дмитрий удивлялся, зачем его, такого неповоротливого, взяли в разведку. Позже он не раз видел, как Курбан в шутку хватал двух здоровенных бойцов под мышки и, улыбаясь, тащил к землянке, смеялся, приговаривая: «Ребята, получайте пополнение!» Только в дневном поиске под Жижморами Дмитрий понял, что значит Курбан для разведчиков.
Коля Денисов – с Волги. Маленький, хрупкий, с пухленькими щечками. В шутку его называли «Наша Машенька». На это он не обижался. Обладал величайшей памятью. В разведке местность запоминал до мелочей. Дмитрия это удивило, откуда у него такое. Коля был тих и скромен, хотя на груди две медали «За Отвагу».
Борис Кузьменко – с Алтая. Учитель начальных классов. С голубыми глазами и пушистыми ресницами. Очень вежливый, всегда улыбчивый, какой-то нежный.
Сигма Синкявичус – литовец, комсомолец, высокий, серьезный. Малоразговорчив. Долго обдумывает фразу, прежде чем ответить. Воюет с начала войны. Помнит поименно товарищей, которые воевали с ним и выбыли из строя или по ранению, или навсегда.
Петя Кононик с Новгорода Великого. Немного фасонистый, форму носил, как царские одежды. Гордился, что он из древнего княжеского рода батюшки Велико Новгорода. Белобрыс, глаза васильковые. Очень наивен и доверчив. Ребята частенько подшучивали над ним, потом признавались, просили прощения, но через некоторое время снова шутили, а Петя снова доверительно слушал.
Батя Захар, которому стукнуло 35, но для двадцатилетних он был «батей», светло-карие глаза с грустинкой смотрели доверительно, дома осталась жена и трое детей. Степенный, рассудительный, любил поучать. Ребята к этому привыкли и не перечили ему. До войны Захар – председатель крупного колхоза в Барабинской степи. Каждый вечер рассказывал про свой колхоз, племенных баранов и коней, о строящемся на центральной усадьбе поселке, школе и больнице. Переживал, что остались недостроенными, плохие люди могут растащить, разворовать нажитое годами.
Пока стояла непогода, активных боевых действий ни та, ни другая сторона не вела. Разведчики бездействовали, но, как всегда по расписанию, с утра до обеда занятия: пара часов по тактике, пара часов по топографии.
На другой день – два часа изучение оружия противника, особенно мин, два часа маскировка на местности, на третий день – два часа немецкого языка, два часа психологии и так каждую неделю. Через месяц Дмитрий пробовал изъясняться с товарищами на немецком. Многие разведчики язык врага знали хорошо, хохотали над произношением Дмитрия до истерики.
На практических занятиях научился маскироваться так, что ребята еле его находили. Говорили: «Ну ты и мастак, маскируешься лучше ящерицы».
Разведка
В январе 1944 года начались бои по освобождению Белоруссии. Взводу разведки была поставлена задача: «Уточнить, где проходит вторая и третья линия обороны противника». Перед городом Рясно командир взвода Пикин Николай Иванович взял четырех человек из отделения Белова: Зигмана Синявичуса, Петра Каноника, Колю Денисова и Дмитрия и трех человек из второго отделения.
Ребятам сказал: «Пора ему обкататься, задание несложное». Нейтралку саперы прочесали с вечера. В два часа ночи вышли на задание. Благополучно прошли нейтралку, проползли первую полосу обороны, две параллельные траншеи. Немцы от холода попрятались в землянки, а часовые, закутавшись в башлыки, жались по углам от ветра. Подошли ко второй линии обороны, она была оборудована основательно, по всем правилам инженерного искусства.
В траншеях людей не было. Траншеи были полузасыпаны снегом, кое-где из блиндажей валил дым. Старший лейтенант Пикин злился: «Сейчас туда бы пару противотанковых гранат, ухнуло бы здорово». Николай Денисов запротестовал: «Не имеем права, товарищ командир, поднимется переполох, в первой траншее народу невидимо и нас перестреляют, как куропаток зимних. Оборону разведали, мы выполнили нашу главную задачу».
При возвращении через траншеи Сигма Синкявичус подвернул ногу. Вскрикнул. Часовой услышал, открыл огонь и стал запускать осветительные ракеты. Подхватив Синкявичуса под руки, быстро ретировались. В темноте, в суматохе выскочили в другое место. Возвращаться пришлось ползком по минному полю, разгребая снег, друг за другом. Где-то в середине нейтральной полосы Федор Капустин напоролся на мину. Куски земли и остатки Федора Капустина разлетелись в стороны. Немцы открыли огонь. Наша артиллерия ответила огнем на подавление. Ждать было нельзя. Начало светать. В снегу разведчики – отличная мишень.
Пикин приказал: «Денисов, вперед!» Николай, извиваясь змеей, пополз, разгребая руками снег, ощупывая пальцами землю, проверяя, нет ли мин.
В метрах десяти за ним – остальные. Минут через десять стрельба прекратилась. Немцы уяснили, что потерь среди них нет, что русские приходили не за языком. Из первого боевого крещения Дмитрий понял, что в разведке мелочей не бывает, лишний шорох, глубокий вздох может загубить дело. Много раз Дмитрий ходил в разведку, но эта первая запомнилась на всю жизнь. Благодаря сведениям, добытым разведкой, через неделю в сорокаградусный мороз батальон морской пехоты проводил разведку боем. Так же тихо проскочила группа захвата вперед, бесшумно сняла часовых. В блиндажах, землянках забросали фашистов гранатами и почти без потерь преодолели первую и вторую полосу обороны, обеспечив продвижение основных сил на город.
В конце мая наступили теплые дни. Зацвела черемуха, через три дня сирень. Воздух был наполнен негой и чарующим запахом весны. Заливались соловьи, щелкали скворцы, в небе парили коршуны, выискивая добычу. Земля подсохла. Болота подтянулись и уже не казались такими сумрачными. На кочках буйно разрасталась трава, в бочажинах, на солнцепеке, квакали лягушки.
Фронт готовился к наступательной операции. Разведгруппе в количестве двенадцати человек была поставлена задача: провести разведку переднего края. Ночью пересечь нейтральную полосу, преодолеть линию обороны, разделиться на четыре группы и провести веерную разведку. В реальности получилось так, что и немцы, и мы проводили разминирование в одном и том же направлении, по гривке болота. Когда группа подходила к траншеям противника, была кромешная темнота, моросил весенний дождик.
Столкнулись лоб в лоб с разведкой противника. Группа Пикина была вблизи окопов противника, поэтому немцы считали себя в безопасности, моральный и огневой перенес был на их стороне. Началась рукопашная. В этом бою был смертельно ранен Яковлев Иван, здоровый мужик, который сначала втихую придушил двух фрицев, но третий ударил Ивана ножом в живот и тогда началась стрельба. Фашисты открыли огонь на отсечение группы. Отходить было нельзя. Пришлось залечь в болоте, забрав с собой тяжелораненого Ивана. Святой закон разведки – раненых и убитых не бросать. Фашистская группа отошла назад, унося убитых и раненых. Начало светать. В мае ночи короткие, огонь прекратился. Замаскировались в болотине. День казался бесконечным. Лежали по шею в воде, руки-ноги онемели. Тело горело от зуда. С наступлением темноты вернулись обратно. Было стыдно. Немцы не искали, считая что остатки разведгруппы еще ночью ушли к своим. Дмитрия от лежания в болотине била лихорадка. Тело покрылось чирьями. Три недели пролежал в полковом лазарете.
Дневной поиск
23 июня началась операция «Багратион», III Белорусский освобождал Псковскую область и Литву.
13 июля 1944 года войска освободили Вильнюс и неумолимо продвигались к Балтийскому морю.
Полк застрял перед Жижморами. Фашисты хорошо укрепили гряду высот. Полк нес потери. Перед Жижморами простирались непроходимые болота.
Командир полка прибыл в разведвзвод на рассвете и поставил задачу – необходим язык, потому что разведка в тыл невозможна. В первой и во второй линии обороны фашисты в траншеях насажены плотно. Остается одно – брать языка из траншеи. «Смотрите, не оплошайте, не притащите мне какого-нибудь повара или ординарца».
В ночь с 17 на 18 июля Дмитрий с отделением Белова преодолели на брюхе нейтралку. Благо, фашисты не успели в болотину навтыкать мин.
В траншеях никого не было. Часовые через каждые десять метров переговаривались и перекликались между собой. У блиндажей стояли парные часовые.
Незамеченные, преодолели первую и вторую траншеи. Залегли около туалета. Вскоре заметили – из землянки вышел гитлеровец, в наброшенной на плечи офицерской шинели. Как только стал открывать двери, Курбан Абдурахманов кулаком оглушил немца, засунул в рот платок. Схватил, перебросил через плечо и потащил.
По ходу движения немца упаковали, связали руки и нога. Тихо передали через траншею, там ждали. Когда притащили в расположение, сбросили шинель, то увидели жирного толстопузого немца, со складками на шее и мясистым носом. Оказался повар с солдатской кухни. Командир полка ходил по ходу сообщения, взмахивал руками, сжимая и разжимая кулаки, и ругался вполголоса.
Разведчики были готовы провалиться сквозь землю. Подошел к разведчикам, потребовал: «Вот что, добрые молодцы, отоспаться, проработать задание до мелочей – через сутки снова в поиск».
Через два дня, чтобы не вызывать подозрения, двинулись по мелиоративной осушительной канаве. Справа и слева непроходимые болота, по кромке канавы тропинка, утыканная минами. Пришлось идти по канаве, наполненной грязью. Канава отвела их от передней линии обороны противника. К рассвету вышли к заброшенному хутору. Передохнули.
Соорентировались на местности и по луговине, поросшей кустарником, стали пробираться к окопам противника. Командир группы определил, что это третья линия обороны. Из-за кустов было видно, как без опаски, свободно ходили фрицы. Ждать ночи – бессмысленно. Был приказ доставить языка к утру. Второй промашки быть не должно. Солнце пекло нещадно. Группа из шести человек вплотную подползла к траншее на расстояние одного прыжка, остальные остались в прикрытии. Дмитрий изнывал от жары. Пот заливал глаза. Ни чихнуть, ни пошевелиться. По траншее проходят очень редко.
Старший в группе Иосиф Рачков. Мысленно ругают старшего: «Когда же, чертова душа, даст команду на захват». Перед обедом движение учащается, но и опасность быть обнаруженными увеличивается. Разведчики понимают, что Рачков не хочет опростоволоситься и выбирает жертву. Наконец, Рачков взмахнул рукой. Курбан Абдурахманов и Петя Каноник бросаются в траншею. Сигма Синкявичус и Толя Васильев на помощь, выхватывают из траншеи фрица. Туловище под мышкой у Курбана, ноги в руках Пети Каноника. Соскочили и побежали в кустарник. Фриц перепуган, от боли только мычит – Курбан сильно его прижал. Минуты через три гитлеровцы опомнились и открыли бешеный огонь по убегающим разведчикам.
Рачков и Васильев бегут рядом, прикрывая своими телами пленника от пуль. Вдруг Курбан падает на колени. Дмитрий видит, как на гимнастерке, под левой лопаткой, разливается красное пятно.
Рачков дает команду: «Кузьменко заменить Курбана, Толе Васильеву, Вайлю и Денисову подхватить Абдурахманова». Добегают до хуторка. Расстояние в полкилометра перекрывают за считанные минуты. Двигаются по канаве обратно. Вода в канаве от жаркого солнца ушла, но бежать было не легче, ноги засасывала густая грязь. Перед своим передним краем саперы успели разминировать тропу вдоль канавы. После сигнала зеленой ракетой, полковая артиллерия отсекла преследователей. Через двадцать минут, грязных с ног до головы, измученных, но довольных, встречал улыбающийся командир полка. Радовался, что добычей оказался унтер-офицер, но посетовал: «Заставили вы меня поволноваться, всю ночь глаз не сомкнул, ждал вот-вот вернетесь, а получилась задержка. Да ладно, слава Богу, что вернулись из поиска и важную птицу притащили. За службу благодарю. Абдурахманова похоронить с почестями. Представить к награде. Сообщить на родину о подвиге». Прибыл командир дивизии и тут же в траншее вручил разведчикам медали «За Отвагу», а командиру группы Рачкову «Звезду».
«И слышу звонкие родные голоса,
И вижу, вижу снова я горящие глаза.
Ведь только у разведчиков такой открытый взгляд,
И жизнь прожив «до вечера» нигде таких ребят
Не встретил, не приметил я, не видел никогда,
Чтоб жили так, что радость – всем
И всем – беда одна,
Чтоб ложки целой дюжины вместились в котелок,
И чтоб к одной подушке припало шесть голов.
Не встретил, не приметил я такой семьи, друзья,
Чтоб жили как разведчики: Вот то уж да – семья!»
Дмитрий Вайль
Разведчики всегда на острие удара. Первыми врываются в населенные пункты и города.
После взятия Кенигсберга часть, в которой служил Дмитрий, вывели из боев. Переформировали. Укомплектовали по военному времени. Получили новое вооружение, обмундирование с иголочки. Дмитрия перевели в топографическую разведку. Прошел слух, что часть будет переброшена на Дальний Восток.
Дальневосточный фронт. Манчжурия. Дмитрий то уходил с группой разведчиков-топографистов в тыл противника, то возвращался.
Задача топографической разведки была определить проходимость дорог, источники водоснабжения. Война закончилась. Демобилизовался в звании «сержант». Женился на милой, очаровательной, белокурой, голубоглазой Полине Мошной, с которой в дружбе и согласии прожил 56 лет.
Работал администратором, заместителем директора во Владивостокском, Петропавловске-Камчатском, Краснодарском драмтеатрах. Сейчас Дмитрий возглавляет Ветеранскую группу артистов при «Премьере».
Самое главное, в свои 85 лет продолжает служить людям, полон сил и энергии. Всегда впереди, как в разведке.
Недавно вышла из печати его небольшая книжица «Я вижу сердцем», где он с большой любовью пишет о своей семье, друзьях-однополчанах, сотрудниках.
Короткие рассказы, а в них столько нежности, обожания к окружающему миру. Я рад, что познакомился с таким жизнеутверждающим человеком.
Капитан Иван Агафонов –
комендант Одессы
Прикамье
Лето, тепло, раздолье. Слышно, как в речке Пая бултыхаются ребятишки. Семен Еремеевич, рыжеватый мужичок с бородкой клинышком, печальными глазами, стоговал. Молодая девчушка лет шестнадцати, племянница по жене, сирота, с оспинками на лице, огненными глазами, черной толстой косой подвозила на Рыжке копны. Работали споро. Семен подшучивал над Танюшкой, та задиристо хохотала. Аксинья, жена Семена, поджарая баба, пришла на покос с узелком, в цветастом полушалке, светло-зеленой кофте и черной юбке до щиколоток, прокричала:
– Здорово, работнички! Наверное, проголодались? Я вот с богомолья иду, сорок дней куму Степану справляли, помолились, слава Богу, все хорошо.
Семен незлобно ответил:
– Каждый день богомолья и поминки, в дом стыдно зайти, лучше бы помогла грести, а то девку надсажаем. Иди, забери домой Ванчика, где-то тут в старице с малышней плескается.
Аксинья рожала каждый год, досмотра за детьми не было – редкие выживали. Иван был первенец, и выхаживали его дед с бабкой. Парнишка родился головастеньким. Перед школой уже читал Евангелие и Псалтырь на церковнославянском языке.
Иван в школе учился с прилежанием, но учителя постоянно жаловались на его шалости: то в школу ужа притащит, то за пазуху насует лягушат, то осиное гнездо спрячет в коридоре, то запустит жужжащий самолетик с резиновым мотором. Вечерами читал допоздна. Подросткам рассказывал так убедительно, как будто сам был участником или очевидцем. Врун был неимоверный. Трудно было отделить правду от вымысла. Часто он попадал в какие-нибудь истории. Несколько раз уходил из дому путешествовать с холщовой сумкой через плечо, добирался до самой дальней родни, откуда его привозили.
Учитель в селе – это самый уважаемый человек, он дает грамоту детям. У крестьян, которые расписывались крестиком, учитель был вроде божества, он много знал, советовал. Иван поступил в педучилище городка Оханска. Учеба давалась легко, учился с наслаждением. Почувствовав ответственность, что самому придется нести знания, посерьезнел. Шалости отошли на второй план. На третьем курсе влюбился, будучи на практике в селе Сергино, в молодую учительницу Олю. Отношения зашли далеко. Дома поставил вопрос ребром: женюсь! Как ни уговаривали родители, что молод, что надо доучиться, ответ был один: мне восемнадцать лет, делюсь, беру свой пай. Что в крестьянском дворе взять, хотя и жил Семен Еремеевич справно: есть лошадь, корова, плуг, хлеба хватало до нового урожая.
Женитьба совпала с коллективизацией. Семен в колхоз идти не хотел ни в какую. На уговоры и угрозы не поддавался. Пришлось съезжать с обжитого места, бросать усадьбу и двор. Ивану выделили корову Чернуху. Беспокойная была корова, настырная, ходила во главе стада вместо быка. Любую изгородь быстро разбирала. Подходила к пряслу, снимала рогами верхнюю жердь, затем остальные. Если попадался переплет между кольями, то и его измочаливала. Пастухи были рады, что избавились от такой коровы. Иван закончил педучилище, молодоженам при школе дали комнатку. А куда корову? Привел ее Иван к нам и попросил: «Тетка Татьяна и дядя Федор, купите корову, смирная она, тихая, молочная. Нам с Ольгой деньги нужны на обустройство, да и куда мы с ней?»
Чернуха быстро привыкла к маме, по характеру одинаковы, но с отцом не заладила. Если ему приходилось доить ее, то начиналось светопреставление. Подойник летел в сторону, хвостом била по лицу, а то и рогом могла поддеть. Дойка заканчивалась криком, а молока в подойнике было «кот наплакал».
В 1938 году я с братом Семеном ездил навестить брательника. У Ивана уже было двое малышей: один еще в люльке, а старший, лет трех, бегал с нами по поляне. Иван поступил на заочное отделение Пермского пединститута.
Когда началась война, Иван работал директором семилетки в Сергино. В первый же день пришел в военкомат с заявлением об отправке на фронт. После коротких курсов Ивана назначили командиром роты, которая состояла из выпускников десятых классов и преподавателей начальной школы. Интеллигентная получилась рота.