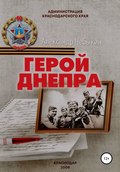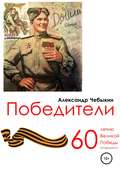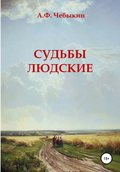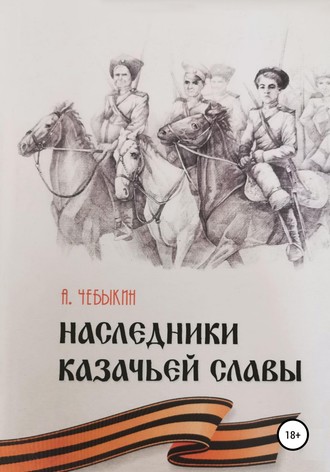
Александр Федорович Чебыкин
Наследники казачьей славы
ИЗЛОМЫ СУДЬБЫ
В Екатеринодаре хирурги в госпитале попробовали сшить сухожилия, получилось, но нога постоянно подкашивалась. За плугом ходить было невмоготу. Кто-то посоветовал шорничать. Научился, но радости от работы не получал. Попробовал портняжничать, это дело оказалось по душе. Пошли заказы. Однажды, когда после пошива большой партии черкесок Иван получил немалую сумму денег, отец сказал: «Хватит в бобылях ходить. Смотри, скоро сорок, не только девки, но и вдовы за тебя не пойдут, пора жениться. Есть ремесло – семью прокормишь». Невеста нашлась на той же улице – Зинаида Науменко. Муж не вернулся из закаспийского похода, детей не оставил. Ждала три года, надеялась, а вдруг объявится. Ивану она давно приглянулась. Сосватали. Сыграли шумную свадьбу. Стыдились: оба в годах. Зинаида в 1905 году родила дочь Елену. Когда ходила ею, Иван оберегал, не давал ничего тяжелого поднимать. В 1910 году появился крепыш Савелий. Уже полгода шла первая мировая война, когда 5 марта 1915 года в семье Ивана родился сын Владимир.
Станица пустела. Война требовала новых и новых жертв. Ивана мобилизовали в артель, где такие же пожилые казаки шили форму, которую отправляли на фронт. Революцию в Ярославской встретили спокойно, для них она была где-то очень далеко. Но осенью 1918 года в станице начался переполох. Стали проходить митинги, собрания. Одни ратовали за новую власть, другие за соблюдение верности присяге и за служение царю-батюшке. Но революция не могла изменить вечных законов жизни. Летом 1919 года у Ивана и Зинаиды рождается дочь Антонида. В лабинских станицах появился генерал Фостиков. Он объявил мобилизацию казаков, даже старших возрастов. За теми, кто не являлся на станичный призывной пункт, приходили ночью и забирали силой. Прихватили и Ивана, хоть и старался он доказать, что не боец – на коня надо подсаживать. Отрубили: «Будешь при обозе ездовым». Привезли в Лабинскую, начали формировать отряд. Ночью Иван сбежал. Ушел в горы на хутор, куда летом выезжали на покос и вывозили ульи на медосбор. Изредка наведывался домой за провиантом и одеждой. Осенью 1919 года Иван вернулся. Дети подрастали. Братья Савелий и Володя росли дружно, опекали сестер. Оба рослые, головастые, сероглазые, настырные.
А в это время в станицу пришла советская власть… Иван в колхоз вступать не стал, так и продолжал работать в артели. «Зачем мне жизнь менять? Пожил я уже свое. Пусть вон Савелий да Владимир живут. Теперь их черед пришел», – часто рассуждал Иван, сгорбившись над очередным заказом. Он смотрел на своих сыновей и удивлялся, какие они разные, будто и не братья вовсе. Савелий был спокойнее, рассудительнее. Володя – взрывной, обидчивый, но отходчивый.
Савелий пошел на рабфак, затем окончил Краснодарский педагогический институт, факультет истории и филологии. Взяли на работу в районную лабинскую газету, сначала завсектором, а через три года стал главным редактором. В этой должности и встретил войну.
Володя в 1932 году окончил шестимесячные педагогические курсы в станице Лабинской и был направлен учителем в станицу Зассовскую. Одновременно поступил на заочное отделение Ставропольского педагогического училища, которое закончил в 1936 году. До войны педагоги сельских школ были освобождены от службы в армии, а привлекались для обучения военному делу в летние военные лагеря. В 1937 году Владимира назначили директором начальной школы в станице Баговской Мостовского района.
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ В ОГНЕ
Началась Великая Отечественная война. Владимир Челиков каждый день ездил на велосипеде в Лабинский райвоенкомат. Когда об этом узнали в РОНО, Владимира предупредили: главное для него сейчас – подготовить школу к зиме. Война войной, а дети должны учиться. Когда придет время, его призовут. Владимир нервничал. Да и как иначе? Разве можно спокойно сидеть в тылу крепкому, здоровому парню, когда его сверстники проливают кровь в борьбе с врагом? Друзья присылали с фронта письма, Владимир внимательно анализировал сводки Совинформбюро, поэтому знал положение на фронтах – оно было тревожным.
В октябре 1941 года Владимиру Челикову пришла повестка в военкомат. Отправили в город Кировоград, в кавалерийскую школу. Володя хоть и вырос в казачьей станице, но на лошади толком сидеть не мог. Своего коня у них не было, а на соседском разве научишься, да и когда, если все детство помогал отцу и братишке зарабатывать на жизнь. Поначалу курсант Челиков падал с лошади, разбивал лицо, травмировал руки и ноги. Но не сдавался, всячески обихаживал своего четвероногого напарника и к концу второго месяца занятий стал чувствовать, что он и лошадь – единое целое.
По окончании кавалерийской школы рядовой Владимир Челиков был направлен в Элисту, в формировавшуюся 110-ю калмыцкую дивизию. К весне 1942 года дивизия была сформирована и брошена на Дон. Передвигались по безводной Сальской степи. Сушь. Ранняя весна. Трава пытается пробиться к солнцу. Она еще так мала, что голодные кони не могут ее ухватить и грызут молодую зелень вместе с корнями и землей. От бескормицы начался падеж. Начальник контрразведки капитан Журавлев предупредил: за погибшую лошадь – под трибунал. Однажды под вечер командир отделения отправил рядового Челикова с бурдюками к колодцу, Днем за водой ехать было бесполезно: десятки солдат стояли в очереди и без конца опускали ведро на длинной веревке, к середине дня черпали густую грязь. Солнце садилось за горизонт. Челиков ехал сначала по выбитой в песке тропе. С закатом солнца практически мгновенно наступила темень, на расстоянии трех метров ничего не видно. На беду, небо затягивали плотные облака.
Владимир знал, что примерно через полчаса езды должен быть колодец. Но прошло уже около часа, а на колодец он так и не наткнулся. «С тропы сбился!» Обратно не поехал, боясь заблудиться в пустынной степи. Улегся спать на голой земле. Перед рассветом похолодало. Владимир продрог, вскочил, стал бегать вокруг лошади. Вдруг услышал, что-то булькнуло. Пригляделся и в предрассветных сумерках, увидел, что спал на краю колодца. Судьба спасла его от беды: еще пара шагов – и он вместе с лошадью полетел бы в широкое устье десятиметрового колодца.
В июле – августе 1942 года Владимир Челиков отступал по той же выгоревшей степи к калмыцким пескам.
ПОЕДИНОК
Поступил приказ занять оборону за селением Червленые Буруны, чтобы перекрыть дорогу на Терекли-Мектеб, – и ни шагу назад. Местность изобиловала солончаками. Коней отвели подальше в тыл, чтобы не попали под огонь вражеской артиллерии. Ширина обороны для полка была определена в пять километров. Два дня рыли траншеи в осыпающемся песке. Окопы вырыли в полный профиль. Но цепочка солдат в окопах оказалась жиденькой. Второй линии обороны не было. В резерве – один конный эскадрон.
Около полудня появилась немецкая колонна. Над окопами взвилась красная ракета. «К бою!» Фашисты двигались нагло, без боевого охранения и разведки.
Челиков за полгода наступлений и отступлений дослужился до ефрейтора и был первым номером ПТР. Он еще зимой отморозил ноги, и сейчас даже радовался, что сидит в окопе, а не идет по пыльной дороге. В полку коней оставалось на два эскадрона, и передвигаться приходилось в основном пешком, таща с напарником – другом Иваном Охлопьевым – на плечах ПТР. Патронов к ружью было десять, а немецких танков – более двух десятков, да и солдат за ними виднелось не менее батальона. Танки пошли на окопы в обход. Свернув с укатанной дороги, они замедлили ход, стали вязнуть в песке, но упорно двигались вперед. По цепи передали: пэтээрщикам беречь патроны, танки подпускать как можно ближе. Танк, двигавшийся на окоп, в котором сидели Иван и Владимир, вырвался вперед. Челиков долго целился, и когда стали четко видны траки гусениц – выстрелил. Танк дернулся, развернулся влево и замер. Но за ним шел второй, а следом, тяжело передвигаясь по песку, показалась немецкая пехота. Заработали наши пулеметы. Пехота залегла, но танки продолжали ползти. Вторая машина, прикрываясь подбитым танком, открыла огонь по окопам. Челиков выстрелил раз, другой… Только после третьего выстрела танк замер и стал погружаться в песок все глубже и глубже. Перед окопами уже замерло до десятка танков. Два из них, подожженные бутылками с горючей смесью, горели у передней кромки окопов.
Остальные немецкие танки устремились на левый фланг, где оборона была прорвана. Челиков стрелял, перенося огонь с одного танка на другой, но снаряды не попадали в уязвимые места, а били по броне. Он загнал последний патрон, когда сбоку перед самым окопом вынырнуло бронированное чудовище. Выстрелил, но снаряд лишь скользнул по броне. Оба солдата, чтобы не быть раздавленными, выскочили из окопа и помчались к бархану, надеясь, что за ним есть спасение. Иван бежал ходко, а Владимир после каждого десятка шагов падал: прожигала боль в ногах. Однако поднимался и снова бежал, пусть несколько шагов, но вперед. Он слышал рев мотора за спиной, видел, как очередь из пулемета прошила друга. Иван остановился, выпрямился, и новая очередь ударила по нему. А Челиков все бежал… И это спасло его: он все время оказывался в мертвой зоне огня танка. Кто знает, сколько бы продолжалась эта игра в кошки-мышки, если бы танк не наскочил на солончак и не погрузился по башню. Танкистам было не до Челикова, им бы самим живыми выбраться, поэтому Владимир успел кое-как добежать до бархана и уползти за него. Лежа на спине, пересохшим ртом хватал воздух, полный пыли и гари. Кто-то над окопами зажег дымовые шашки, и густая пелена накрыла поле сражения. Немного отдышавшись и подобрав винтовку убитого солдата, Владимир направился к левому флангу полка. Оставшиеся немецкие танки и пехота отошли. «Странно, почему они не зашли с левого фланга в тыл полка? – подумал Челиков и тут же отогнал эту мысль: – Нельзя так думать! И слава Богу, что не зашли!» Он видел подбитые и горевшие на поле и над окопами танки, истерзанные и засыпанные песком тела бойцов, с которыми еще вчера на привале шутил и пел старые казацкие песни…
Этот бой дорого обошелся кавалерийскому полку. И штаб, и командир погибли. Командир 1-го эскадрона Назран Сайтов жестоко матерился по-русски, проклиная штаб и командира полка за бестолковое руководство боем, в результате которого половина полка вместе со штабом погибла. Можно было развернуть полк на участке шириною в два километра и в две линии, ведь было ясно, что танки в сторону от дороги в зыбучие пески не пойдут. И что получилось?! Левый фланг смят и уничтожен полностью, а правый – бездействовал, но помочь ничем не мог. А запасной эскадрон – что он мог сделать против танков?..
Тут в воздухе появилось звено «ястребков» и стало расстреливать танки и немецкую пехоту из пулеметов. Совершив несколько заходов, «ястребки» ушли к Волге. Капитан Сайтов объявил, что командование полком берет на себя. За время сражения бойцы израсходовали боезапас, не было ни пищи, ни воды. Привели коней из укрытия. Все, что можно было найти на поле боя: винтовки, противотанковые ружья, патроны, – собрали и навьючили на коней. Попрощались с убитыми. Могилы рыть было некогда: немцы могли подтянуть резервы и возобновить атаки. Уложили павших в сохранившиеся окопы, засыпали, дали прощальный залп и двинулись на восток.
ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ
Шли несколько часов, не встречая жилья. Наконец увидели одинокую юрту. Около нее ни скота, ни людей. В юрте нашли старика, который сказал, что это Ногайская степь, а северо-восточнее – безводные калмыцкие пески. Недалеко селение Терекли-Мектеб. Поинтересовались, почему он тут один, ведь немцы рядом, это опасно. Старик ответил: «Сыновья с отарой овец ушли к Волге, а я стар. Тут я родился, здесь знаю каждый овражек, где из земли бьет ручеек, каждая веточка мне дорога. Тут похоронены мои деды и прадеды, моя жена и мои дети, которые умерли в детстве. Куда я от них пойду? Тут буду умирать. Это моя земля, и я с нее не сойду».
Через сутки, голодные, оборванные, три сотни казаков-кубанцев дошли до селения Терекли-Мектеб. Здесь встретили командование 110-й калмыцкой дивизии, которое удивилось, что три сотни солдат вырвались из окружения и задержали немцев на трое суток.
РАЗВЕДКА
Потрепанные казаками у Терекли-Мектеба немцы больше не пытались наступать в этом направлении. Техника увязала в песках Червленых Бурунов. Противник повернул основные силы на Ай-Куй.
Прошел октябрь, немцы вели ожесточенные бои в Сталинграде, поэтому вынуждены были снять часть сил с кизлярского направления. В начале ноября 110-ю калмыцкую дивизию расформировали. Кубанцев передали в 30-ю Краснознаменную кавалерийскую дивизию.
В ноябре, при двадцатиградусных морозах, задули пронизывающие ветры из-за Каспия. Ноги в ботинках примерзали к подошве. На ночь ботинки снимали, ноги заматывали сеном, поверху стягивали обмотками.
Утром 18 ноября по окопам передали: «Челикова к командиру эскадрона». Владимир вылез из норы, набитой сеном, схватил ботинки, а они смерзлись, на ноги не лезут. Кое-как замотал ноги обмотками, один ботинок сунул за пазуху, а другой отогревал на ходу, дыша вовнутрь. Веселому казацкому нраву никакие трудности и морозы не страшны, поэтому и тут казаки по ходу траншеи заливались хохотом: «Дуй босиком! По пути и штаны сними, немцы как увидят – сразу убегут домой к своим фрау от расстройства!»
Подбегая к командирской землянке, Челиков еле-еле натянул тот ботинок, который грелся за пазухой, а второй не смог – ступню засунул наполовину. Командир заметил это, нахмурился: «Знаю, Челиков, не легко вам сейчас в окопах, обмораживаетесь. Но потерпи, скоро жарко будет и нам, и немцу. Хватит на нарах сидеть. Пора фашисту дать по зубам. Можешь передать бойцам, на подходе из Сибири эшелон с валенками и полушубками. А теперь слушай задачу. Говорят, ты самый шустрый, от танка убежал. Пойдешь со своим отделением в разведку. Постарайся проникнуть как можно дальше. Узнаешь, что там у них за оборона. Сейчас между нами более двух километров. Проверишь тылы, что делается в Червленых Бурунах. Задача ясна?» Челиков спросил: «В разведку пойдем на конях или пеше?» – «На машине». – «Так нас сразу любой пушкой прибьют». – «А я что, тебя просто так выбрал? Постарайся, чтобы не прибили, используйте фактор внезапности. Но глупостей не делайте, вы должны вернуться живыми, слышишь, Челиков, живыми, это приказ!»
Челиков собрал отделение, пригласил шофера «газона», рассказал о задании и спросил, у кого какие предложения. Шофер, удалой малый, нарушил молчание: «Эх, была не была! Садимся в машину, накрываемся плащ-палатками – и вперед! Наглость города берет!»
Как только солнце спряталось за барханами, на степь опустилась кромешная тьма. Отделение Челикова было готово выступить на задание. Разведка заранее доложила, где находятся стыки немецких частей, – это были наименее укрепленные части обороны. Решили ехать не тропами, которые обычно минировались, а напрямик по дорогам, там стояли дозоры, но их можно было обмануть, не то что мину. Тихо переехали передовую, объехали небольшой поселок. В неярком свете фар увидели немцев. «Ишь, гады, наших баранов да кур тащат!» – кто-то зло прошептал в кузове. Проехали. Фашисты не обратили никакого внимания. Поселок остался позади, все вокруг было тихо. «Ребята, какие же мы дураки, живых языков упустили! – ругнулся один из солдат. – Сами в руки шли, да еще и с баранами». Развернулись, догнали. Выскочили из машины, закричали: «Хальт! Хенде хох!» Немцы опешили, побросали добычу, оружие. Разведчики не растерялись: автоматы в кабину сложили, немцев связали – и в кузов. От них же узнали, что за селом нет обороны, немцы сидят в хатах, а в окопах только наблюдатели. Решили проверить наличие огневых точек в селе. А как? Сняли с выхлопной трубы глушитель и на полной скорости помчались к селу. Немцы выскакивали из хат, кое-кто палил в воздух. Никак не могли понять, чья машина, тем более со стороны тыла, подумали, что какой-то пьяный шофер веселится. Промчались через передовую линию противника и перед нашими окопами стали палить зелеными ракетами, чтобы не перестреляли свои, хотя охранение и было предупреждено, что разведка будет возвращаться на машине. И все равно стреляли, несколько пуль попало в кузов. Но все обошлось. Захваченные языки рассказали, что на этом участке оборону занимает немецкий батальон, а тыловые части состоят из румын.
На другой день, рано утром, южнее началась артподготовка против основных сил противника. Разведывательный эскадрон, в котором служил Челиков, первым проскочил окопы и обошел селение, перекрывая немцам пути отхода. Околевшие от холода, напуганные внезапным наступлением, немцы поспешно поднимали руки. В селении сопротивление оказали только засевшие в школе гитлеровцы, но поняв, что окружены, сдались.
После короткого боя полк вступил в Карачас. Параллельно 30-й кавалерийской дивизии от Гудермеса вдоль железной дороги двигался 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус.
НА РОСТОВ
20 ноября 1942 года 30-я кавалерийская дивизия приказом Ставки была введена в состав 4-го Кубанского казачьего корпуса. В ноябре же прибыл из Сибири эшелон долгожданных полушубков и валенок, а следом – эшелон монгольских лошадей. Кони были не объезженные – полудикие.
В декабре 1942 года Челикова из разведки перевели в сформированный 23-й отдельный эскадрон связи при штабе дивизии. С лошадьми пришлось помучиться: они не хотели ходить в узде, а тем более под седлом. Челикову достался монголец, по паспорту – Мурза. Владимиру кличка не понравилась, и он стал звать коня по-своему – Матвей, что даже больше подходило жеребцу. Лохматый, с широкими, как лопата, копытами, выносливый. На морозе не дрожал. Корм находил сам, разгребая снег. Владимир быстро подружился с Матвеем, всегда имел в кармане кусочек сахару или корочку хлеба. Казаки смеялись: «Ну и дружба у вас, не разольешь водой. Куда Челиков – туда и конь!» Действительно, где бы ни был Челиков, Матвей тут же оказывался рядом, дышал ему в затылок, старался губами дотронуться до руки, как бы говоря: «я тут, с тобой».
После взятия Ставрополья дивизия освобождала северные районы Краснодарского края. Дом рядом, рукой подать, но не вырвешься. Немцы поспешно отступали, боясь попасть в новый котел. Владимир с рассвета до заката не слазил с коня, ноги деревенели. Полки дивизии были растянуты на тридцать километров, связь прерывалась по нескольку раз в день. Дивизия получила приказ маршем, не ввязываясь в бои с противником, двигаться на Ростов. 8 февраля 1943 года форсировали реку Дон северо-западнее Ростова. Саперы наращивали лед, а Матвей спокойно шлепал и по тонкому льду. Челиков не дал обрезать копыта и упросил не подковывать Матвея. Подойдя к немецкому оборонительному рубежу на реке Миус, дивизия вступила в тяжелые бои в районе Матвеева кургана. Челикова несколько раз контузило, но он не покидал свой эскадрон. День-два отлежится – и снова на своем Матвее носится от полка к полку. В начале марта дивизия была выведена в резерв, пополнялась и готовилась к новым боям.
ТАГАНРОГСКИЙ И МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ РЕЙДЫ
В конце августа 1943 года 30-я кавалерийская дивизия в составе 4-го Кубанского корпуса была введена в прорыв немецкой обороны. Начался знаменитый Таганрогский рейд в оперативном тылу врага. Челиков спал по два-три часа в сутки, порой засыпал на ходу, ухватившись за гриву Матвея. 30-я дивизия пробилась к Азовскому морю и участвовала во взятии Таганрога. Каждую неделю командование ставило дивизии новые задачи по освобождению населенных пунктов Ростовской, Донецкой и Запорожской областей. Эскадрону связи за сутки приходилось преодолевать сотни километров. Выбившихся из сил лошадей заменяли свежими, только Матвей у Челикова вместе с ним стойко переносил все тяготы и лишения войны.
26 октября 1943 года 4-й Кубанский казачий корпус включился в Мелитопольскую наступательную операцию. 30-я кавалерийская дивизия вырвалась вперед, овладела населенным пунктом Новоалександровка, но потеряла связь со штабом корпуса. Группе связистов-конников во главе с Челиковым была поставлена задача восстановить связь. Пробиваясь через немецкие заслоны, теряя друзей, Челиков выполнил задание. Дивизия была перенацелена на Новогригорьевку, надо было срочно передавать в полки новые приказы. Когда полки в движении, телефонная связь мало действенна: бесконечные разрывы, гибель связистов. Остается надежда только на лошадь – надежную спутницу казака. Очищая от немцев Новогригорьевку, дивизия отсекла им пути отхода. Немцы беспрерывно контратаковали, дивизия несла потери. Необходимы были согласованные действия, для этого командиром дивизии была поставлена задача установить надежную связь между полками. И снова ефрейтор Челиков с катушками на шее, под огнем противника восстанавливает десятки метров разрывов. Особенно трудно пришлось в районе сел Павловка и Ольгинка, которые находились в руках гитлеровцев. Немцы вели ураганный огонь из пушек и закопанных танков. Связь снова и снова прерывалась, эскадрон терял людей. Челиков, извиваясь змеей, со сбитыми в кровь коленями, в сапогах, полных набившейся земли, в порванных штанах и гимнастерке, снова и снова восстанавливал связь. И на этот раз судьба берегла его. Болтались провода катушек, иссеченные осколками и пулями, кирзачи – в дырах. После боя Владимир вытащил два осколка из записной книжки, которая хранилась в нагрудном кармане. Но задачу Челиков выполнил. Связь хоть и с короткими перерывами, но работала надежно. За бои в прорыве и обеспечение связи между дивизией и штабом корпуса ефрейтор Челиков В.И. одним из первых среди рядовых и сержантов корпуса был награжден орденом Славы III степени.