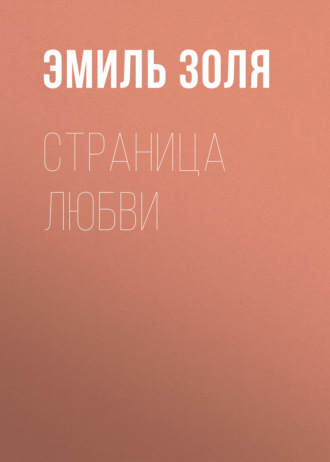
Эмиль Золя
Страница любви
– Будьте мужественны, – повторял он, сам весь дрожа.
Они не сводили глаз с узкого, облитого солнечным лучом гроба. В ногах его, на кружевной подушке, лежало серебряное распятие. Налево стояла кропильница с опущенным в нее кропилом. Высокие свечи горели беспламенно, вкрапливаясь в солнце дрожащими пятнами маленьких улетающих душ. Под навесом из белых тканей переплетались аркой ветви деревьев, покрытые лиловыми почками. То был уголок весны. Через щель драпировки туда проникала золотая пыль широкого солнечного луча; в нем, казалось, пышнее расцветали усыпавшие гроб цветы. Целая лавина цветов – белых роз, нагроможденных снопами, белых камелий, белой сирени, белой гвоздики – снежные груды белых лепестков; тело исчезло под ними, с покрова свешивались белые гроздья, на земле осыпались белые барвинки и гиацинты. Редкие прохожие, проходившие по улице Винез, останавливались с растроганной улыбкой перед этим залитым солнечными лучами садиком, где покоилась под цветами маленькая усопшая. Вся эта белизна пела, сверкая в ярких лучах ослепительной чистотой, солнце пронизывало драпировку, букеты, венки горячим трепетом жизни. Над розами жужжала пчела.
– Цветы… цветы… – прошептала Элен. Других слов у нее не было.
Она прижала платок к губам; глаза ее наполнились слезами. Ей казалось, что Жанне должно быть тепло, и эта мысль разрывала ей сердце мучительным умилением, к которому примешивалось чувство благодарности к тем, кто осыпал девочку всеми этими цветами. Она шагнула вперед, – господин Рамбо уже не решался удерживать ее. Как хорошо было под этими свисающими тканями! Струилось благоухание, теплый воздух был неподвижен. Она нагнулась и выбрала себе на память только одну розу. За розой пришла она – спрятать ее у себя на груди. Но дрожь уже начинала бить ее. Господин Рамбо испугался.
– Не оставайтесь здесь, – сказал он, увлекая ее. – Вы обещали беречь свое здоровье!
Он пытался увести ее в беседку. Но в эту минуту дверь гостиной распахнулась настежь. Первой показалась Полина – она взяла на себя организовать шествие. Девочки, одна за другой, спускались в сад. Казалось, то был довременный расцвет, распустившиеся чудом цветы боярышника. Белые платья круглились на солнце, сияли прозрачными отливами, играли, словно крылья лебедей, нежнейшими оттенками белизны. Осыпалась яблоня в цвету, реяли паутинки, платья были – сама невинность весны. Девочки шли, они уже обступили лужайку, а с крыльца сходили все новые и новые – легкие, вспорхнувшие, как пушинки, вдруг распустившиеся на вольном воздухе.
И когда весь сад забелел, в душе Элен, при виде рассыпавшейся во все стороны толпы девочек, всплыло воспоминание. Ей вспомнился бал в ту, минувшую, весну, резвая радость детских ножек. Перед ней вновь встала Маргарита в костюме молочницы, с кружкой у пояса, Софи в костюме субретки, танцующая со своей сестрой Бланш, одетой Безумием, звенящей бубенцами своего костюма. Пять девочек Левассер – Красные Шапочки – всюду являли взорам одинаковые колпачки из пунцового атласа с черной бархатной каймой. Маленькая Гиро, с бабочкой эльзасского убора в волосах, безудержно прыгала перед Арлекином, вдвое выше ее ростом. Сегодня все они были белые. Жанна тоже лежала белая, на белой атласной подушке, среди цветов. Тоненькая японочка, с прической, украшенной длинными шпильками, с пурпурной туникой, расшитой птицами, уходила в белом платье.
– Как они выросли! – прошептала Элен.
Она залилась слезами. Все были налицо – не хватало только ее дочери. Господин Рамбо заставил ее войти в беседку, но она осталась стоять на пороге, она хотела видеть, как тронется шествие. Несколько дам поклонились ей с деликатной сдержанностью. Дети смотрели на нее удивленными голубыми глазами. Тем временем Полина переходила от одной девочки к другой, отдавая распоряжения. Помня о печальном событии, она старалась говорить вполголоса, но порой забывалась.
– Ну же, будьте умницами… Гляди, дурочка, ты уже запачкалась… Я приду за вами, не сходите с места!
Подъехала похоронная колесница, уже пора было отправляться. Появилась госпожа Деберль, она воскликнула:
– Букеты забыли… Полина, живо букеты!
Наступило легкое замешательство. Для каждой девочки был приготовлен букет из белых роз. Нужно было их раздать, восхищенные дети держали перед собой букеты, как свечи. Люсьен, не отходивший от Маргариты, с наслаждением вдыхал запах ее букета, – она совала цветы ему в лицо. Все эти девочки, с руками, полными цветов, смеялись на ярком солнце; но, глядя, как гроб поднимают на катафалк, они вдруг стали серьезными.
– Она там, внутри? – спросила чуть слышно Софи.
Сестра ее Бланш утвердительно качнула головой. Потом сказала в свою очередь:
– Когда хоронят мужчин, эта штука много больше, вот такая!
И она раздвинула руки как можно шире, разумея гроб.
Но маленькая Маргарита, уткнувшись носом в розы, засмеялась и объявила, что они щекочут ее. Тогда и другие уткнулись носами в букеты – посмотреть, так ли это. Их позвали, – они вновь сделались чинными.
Шествие тронулось. На углу улицы Винез какая-то простоволосая женщина, в домашних туфлях, плакала, утирая слезы краешком передника. В окнах появилось несколько лиц, слышались соболезнующие возгласы. Катафалк, обтянутый белой драпировкой с серебряной бахромой, двигался бесшумно; слышался лишь мерный глухой топот двух белых лошадей по утрамбованной земле. Казалось, колесница уносила жатву цветов, букетов, венков; гроба не было видно; легкие толчки встряхивали нагроможденные снопы, – с колесницы осыпались ветки сирени. По четырем углам катафалка бились на ветру длинные ленты белого муара; концы их держали четыре девочки – Софи, Маргарита, одна из девочек Левассер и маленькая Гиро; крошка так спотыкалась, что матери пришлось пойти рядом с ней. Остальные, с пучками роз в руках, окружали катафалк сомкнутым строем. Они шли не спеша, вуали их развевались, колеса вращались среди этого муслина, словно уносимые облаком, из которого улыбались нежные лики херувимов. Позади, бледный, с опущенной головой, шел господин Рамбо, за ним – дамы, несколько мальчиков, Розали, Зефирен, слуги супругов Деберль. За шествием следовали пять пустых карет. Белые голуби взмыли среди залитой солнцем улицы, когда к ним приблизилась эта колесница весны.
– Бог мой, какая досада! – повторяла госпожа Деберль, глядя вслед процессии. – Ну что бы Анри отложить этот консилиум! Я ведь говорила ему!
Она не знала, что ей делать с Элен, бессильно опустившейся на кресло в японской беседке. Анри остался бы с ней, утешил бы ее немножко. Как неприятно, что его нет! Жюльетту выручила мадемуазель Орели, предложившая ей свои услуги: она не любит ничего печального, а кстати, займется и завтраком, который нужно приготовить детям к их возвращению. Госпожа Деберль поспешила присоединиться к шествию, – оно направлялось улицей Пасси к церкви.
Теперь сад был пуст, рабочие складывали драпировки. На песке, на том месте, где была Жанна, остались только осыпавшиеся лепестки белой камелии. И от этого внезапного перехода к одиночеству и глубокой тишине Элен вновь ощутила щемящую тоску вечной разлуки. Еще раз, один-единственный раз побыть с Жанной! Неотступная мысль, что девочка ушла непримиренная, с окаменелым, потемневшим в своей неумолимости лицом, прожигала Элен насквозь каленым железом. Тогда, видя, что мадемуазель Орели стережет ее, она решила хитростью освободиться от нее и побежать на кладбище.
– Да, это тяжкая утрата, – повторяла старая дева, уютно расположившись в кресле. – Я обожала бы своих детей, в особенности девочек. А как подумаешь, оно и лучше, что я не вышла замуж. Горя меньше…
Думая развлечь Элен, она заговорила об одной своей подруге, у которой было шестеро детей: все умерли. Другая дама осталась одна со своим взрослым сыном: он колотил ее; вот уж кому следовало умереть, – мать легко утешилась бы. Элен делала вид, что слушает болтовню старой девы. Она сидела неподвижно, только дрожь нетерпения пробегала по ней.
– Вот вы и успокоились немного, – сказала наконец мадемуазель Орели. – Что поделаешь! Когда-нибудь да приходится образумиться.
Дверь столовой выходила в японскую беседку. Мадемуазель Орели встала, приоткрыла ее, вытянула шею. Стол был уставлен тарелками и пирожными. Элен проворно выбежала в сад. Решетчатая калитка была открыта, рабочие похоронного бюро уносили лесенку.
Налево улица Винез выходит на улицу Резервуаров. Там и находится кладбище Пасси. От аллеи Ла-Мюэтт подымается исполинская стена – каменная облицовка края грунта; кладбище, подобно гигантской террасе, возвышается над этой кручей, над Трокадеро, над улицами, расстилающимися внизу, – над всем Парижем. Несколько минут – и Элен уже стояла перед зияющими кладбищенскими воротами. За ними раскинулось пустынное поле белых могил и черных крестов. Она вошла. Два больших куста сирени, уже пустивших почки, высились по сторонам первой аллеи. Здесь хоронили редко; виднелись буйно разросшиеся травы, несколько кипарисов разрезали зелень темными столпами. Элен пошла напрямик. Испуганно взвилась стая воробьев, могильщик, швырнув лопатину земли, поднял голову. Верно, шествие еще не достигло кладбища, – оно казалось пустым. Элен повернула направо, дошла до ограды и, пройдя вдоль нее, увидела за купой акаций девочек в белом, коленопреклоненных перед временным склепом, – туда только что опустили тело Жанны. Аббат Жув, простерши руку, благословлял ее в последний раз. До Элен донесся только глухой стук плиты, замкнувшей склеп. Все было кончено.
Полина заметила Элен и указала на нее госпоже Деберль. Та едва не рассердилась.
– Как! Она пришла! – пробормотала она. – Но это ведь не принято; это выходка очень дурного тона.
Она направилась к Элен, давая ей выражением лица понять, что не одобряет такого поступка. Подошли, движимые любопытством, и другие дамы. Господин Рамбо уже стоял, молча, рядом с Элен. Она прислонилась к стволу акации, утомленная этим многолюдием, чувствуя, что не в силах стоять на ногах. Ей выражали соболезнование, она в ответ молча кивала головой. Одна-единственная мысль душила ее: она пришла слишком поздно, она услышала звук упавшей надгробной плиты. И взор ее вновь и вновь возвращался к склепу, – кладбищенский сторож подметал теперь его ступеньки.
– Присматривай за детьми, Полина! – повторяла госпожа Деберль.
Девочки вставали с колен, как стая спугнутых воробьев. Некоторые из них, совсем маленькие, запутавшись коленями в своих юбках, уселись на землю, пришлось поднимать их. Когда Жанну опускали в склеп, старшие вытягивали шею, чтобы заглянуть на дно, – там была черная яма. Дрожь пробежала по ним, лица побледнели. Софи уверяла шепотом, что там, внутри, остаются на годы, долгие годы. «И ночью?» – спросила одна из девочек Левассер. «Конечно, и ночью». О, ночью Бланш умерла бы там со страха. Они смотрели друг на друга широко раскрытыми глазами, будто им рассказали историю о разбойниках. Но когда они поднялись на ноги и рассыпались вокруг склепа, лица их вновь порозовели; все это неправда, это рассказывают так, шутки ради. Слишком уж было хорошо вокруг, что за чудесный сад! И какая высокая трава! Вот бы славно поиграть в прятки за всеми этими камнями! Резвые ножки уже пускались в пляс, белые платья трепетали, словно крылья. Среди безмолвия могил вся эта детвора расцветала под теплым, тихо падавшим дождем солнечных лучей. Люсьен, не вытерпев, просунул руку под вуаль Маргариты, и трогал ее волосы, чтобы узнать, отчего они такие желтые, – не выкрасила ли она их? Девочка самодовольно охорашивалась. Потом он сказал ей, что они поженятся. Маргарита была согласна, но боялась, что он станет дергать ее за волосы. Люсьен снова потрогал ее кудри – они казались ему атласистыми, как почтовая бумага.
– Не уходите так далеко! – крикнула Полина.
– Что же, пора и в путь, – сказала госпожа Деберль. – Делать нам здесь больше нечего, а дети, верно, проголодались.
Девочек пришлось собирать, – они разбежались во все стороны, как школьницы во время перемены. Их пересчитали – недосчитались маленькой Гиро. Наконец ее увидели вдали, в аллее. Она степенно разгуливала там под зонтиком своей матери. Дамы направились к выходу, наблюдая за струившимся перед ними потоком белых платьев. Госпожа Бертье поздравляла Полину: ее свадьба должна была состояться в следующем месяце. Госпожа Деберль рассказывала, что уезжает через три дня с мужем и Люсьеном в Неаполь. Народ расходился. Последними остались Розали с Зефиреном. Затем удалились и они. В восторге от этой прогулки, несмотря на искреннее горе, они взялись под руку и пошли не спеша; их круглые спины мгновение еще колыхались в конце аллеи под лучами солнца.
– Идемте, – сказал вполголоса господин Рамбо.
Но Элен жестом попросила его обождать. Она осталась одна; ей казалось, что из ее жизни вырвана страница. Когда она увидела, что на кладбище не осталось никого из посторонних, она с трудом преклонила колена перед склепом. Аббат Жув, в стихаре, еще не поднимался с земли. Оба долго молились. Потом священник молча помог Элен встать; взор его излучал милосердие и прощение.
– Дай ей руку, – просто сказал он господину Рамбо.
На горизонте золотился в сиянии весеннего утра Париж. В глубине кладбища пел зяблик.
V
Прошло два года. В одно декабрьское утро маленькое кладбище спало среди резкого холода. Еще накануне пошел снег, мелкий снег, гонимый северным ветром. С бледнеющего неба с летучей легкостью перьев падали, редея, хлопья. Снег уже затвердевал, высокая оторочка лебяжьего пуха тянулась вдоль ограды. За этой белой чертой в мутной бледности горизонта простирался Париж.
Госпожа Рамбо еще молилась, стоя на коленях перед могилой Жанны, на снегу. Ее муж молча поднялся на ноги. Они поженились в ноябре, в Марселе. Господин Рамбо продал свое заведение на Центральном рынке и уже три дня жил в Париже, заканчивая связанные с этой продажей формальности; фиакр, ожидавший супругов на улице Резервуаров, должен был заехать в гостиницу за багажом, а оттуда отвезти их на вокзал. Элен предприняла это путешествие с единственной мыслью преклонить колена у могилы дочери. Она оставалась неподвижной, склонив голову, словно забыв, где она, и не чувствуя холодной земли, леденившей ей колени.
Ветер стихал. Господин Рамбо отошел к краю террасы, не желая отвлекать жену от немой скорби воспоминаний. Туман поднимался из далей Парижа, необъятность которого тонула в белесой мути этого облака. У подножия Трокадеро, под медленным полетом последних снежинок, город, цвета свинца, казался мертвым. В неподвижном воздухе, с едва заметным непрерывным колебанием, сеялись на темном фоне бледные крапинки снега. За трубами Военной пекарни, кирпичные башни которых окрашивались в тона старой меди, бесконечное скольжение этих белых мух сгущалось, – в воздухе словно реяли газовые ткани, развертываемые нитка по нитке. Ни единый вздох не веял от этого дождя, – он, казалось, падал не наяву, а во сне, заколдованный на лету, словно убаюканный. Чудилось, что хлопья, приближаясь к крышам, замедляют свой лет; они оседали без перерыва, миллионами, в таком безмолвии, что лепесток, роняемый облетающим цветком, падал бы слышнее; забвением земли и жизни, нерушимым миром веяло от этих движущихся сонмов, беззвучно рассекавших пространство. Небо все более и более просветлялось, окрашивалось молочным оттенком, кое-где еще затуманенным струями дыма. Мало-помалу выступали яркие островки домов, город обрисовывался с птичьего полета, прорези его улиц и площадей тянулись рвами и теневыми провалами, вычерчивая гигантский скелет кварталов.
Элен медленно поднялась. На снегу остался отпечаток ее колен. Закутанная в широкое темное, опушенное мехом манто, она казалась очень высокой, выделяясь широкими плечами на фоне ослепительно-белого снега. Поля шляпы из черного плетеного бархата бросали на ее лоб тень диадемы. Она вновь обрела свое прекрасное, спокойное лицо, блеск серых глаз и белых зубов; округлый, несколько массивный подбородок по-прежнему придавал ей выражение благоразумия и твердости. Когда она поворачивала голову, ее профиль вновь являл строгую четкость статуи. Кровь дремала под свежей бледностью ее щек. Чувствовалось, что она вновь поднялась на свою прежнюю целомудренную высоту. Две слезы скатились с ресниц Элен: ее спокойствие было преображением ее прежнего страдания. И она стояла перед надгробием – простой колонной, где под именем Жанны были высечены две даты, измерявшие краткое протяжение жизни маленькой двенадцатилетней усопшей.
Вокруг нее кладбище расстилало белизну своей пелены, прорезанную углами заржавленных памятников, железными крестами, похожими на раскинутые в печали руки. Одни только шаги Элен и господина Рамбо проложили тропинку в этом пустынном уголке, где в белоснежном уединении спали мертвые. Аллеи уходили вдаль легкими призраками деревьев. Порою с отягченной ветки бесшумно падал ком снега, и снова все застывало в неподвижности. На другом конце кладбища толпой прошли люди в черном: там опустили кого-то под этот белый саван. Слева близилось другое похоронное шествие. Гробы и провожатые тянулись в безмолвии, силуэты их четко выделялись на бледности снежного покрова.
Мысли Элен возвращались к действительности. Тут она увидела около себя старую нищенку, едва волочившую ноги. То была тетушка Фетю; снег заглушал шарканье ее мужских башмаков, разорванных и починенных бечевкой. Никогда еще Элен не видела ее в такой нищете, более дрожащей и жалкой, одетой в более грязные отрепья; она еще больше раздулась и казалась отупелой. Теперь, в непогоду, в стужу, в ливни, старуха провожала погребальные шествия, рассчитывая на участливость сострадательных людей, ибо знала, что на кладбище страх смерти побуждает подавать милостыню; она посещала могилы, подходя к коленопреклоненным людям в ту минуту, когда они разражались рыданиями и не имели сил отказать ей. Войдя на кладбище вместе с последней процессией, она уже несколько минут приглядывалась издали к Элен, но не узнала «доброй барыни»; стоя с протянутой рукой, принялась, всхлипывая, рассказывать Элен, что у нее дома двое детей умирают с голоду, что они сидят без огня, старший погибает от чахотки. Элен слушала ее, онемев при виде этого призрака прошлого. Вдруг тетушка Фетю остановилась; бесчисленные морщины ее лица выразили напряженную работу мысли, сощуренные глазки заморгали. Как! Добрая барыня! Значит, небо услышало ее мольбы! И, оборвав рассказ о детях, она принялась ныть, разливаясь неиссякаемым потоком слов. Теперь у нее вдобавок не хватало зубов, – едва можно было понять, что она говорит. Все кары Господни обрушились на ее голову. Барин рассчитал ее, она пролежала три месяца в постели. Да, она все еще болеет, – теперь уже ее всю как есть разбирает, соседка говорит, что это, верно, паук заполз ей в рот во время сна. Будь у нее хоть немножко угля, она согрела бы себе живот, – только это и помогало ей теперь. Но у нее нет ничего, даже обгорелой спички. А барыня, может быть, путешествовала? Значит, дела были. Слава богу и за то, что она видит барыню в добром здоровье, свежей и красивой. Господь воздаст ей за все. Элен вынула кошелек. Тетушка Фетю, задыхаясь, оперлась о решетку могилы.
Похоронные процессии удалились. Где-то рядом, в могильной яме, равномерно ударял заступ невидимого могильщика. Тем временем старуха, не отводя глаз от кошелька, перевела дух. Чтобы получить побольше денег, она, приняв вкрадчиво-ласковый вид, заговорила о той – другой барыне. Грех сказать, сердобольная дама. Так поди ж ты! Она не знает, как взяться за дело, ее деньги не идут впрок. Говоря это, старуха осторожно косилась на Элен. Наконец она рискнула упомянуть имя доктора. О! Вот уж он-то добрейший человек. Прошлым летом он уезжал вместе с женой. Мальчик их подрастает – прелестный ребенок! Но пальцы Элен, открывавшие кошелек, задрожали, и тетушка Фетю внезапно изменила тон. Ошеломленная, растерянная, она только теперь поняла, что добрая барыня стоит у могилы своей дочери. Она забормотала, начала вздыхать, постаралась вызвать у Элен слезы. Такая чудная крошка, с такими очаровательными ручонками, – она еще так и видит, как девочка подавала ей серебряные монеты. Какие у нее были длинные волосы, как она смотрела на бедных большими глазами, полными слез! Да, уж второго такого ангела не найти, нет таких больше, хоть все Пасси обойти. В хорошую погоду она каждое воскресенье будет приносить ей на могилу букет маргариток, набранных во рву городских укреплений. Она замолчала, встревоженная жестом, которым Элен прервала ее речь. Неужели она разучилась угадывать, что кому надо сказать? Добрая барыня не плакала и дала ей только один франк.
Тем временем господин Рамбо приблизился к ограде террасы. Элен подошла к нему. При виде мужчины глаза тетушки Фетю заискрились. Этого она не знала: то был, верно, новый. Волоча ноги, она последовала за Элен, призывая на нее благословение Господне; приблизившись к господину Рамбо, она вновь заговорила о докторе. Вот уж у кого будут многолюдные похороны, когда он умрет, если все бедняки, которых он лечил бесплатно, пойдут за его гробом! Он немножко бегает за женщинами, это всякий скажет. Некоторые дамы в Пасси близко знали его. Но это не мешает ему боготворить свою жену. Такая хорошенькая дамочка! Могла бы ведь и пошалить, да уж куда там – даже и думать об этом перестала. Настоящие голубки. Повидалась ли барыня с ними? Они, верно, у себя – она только что видела, что ставни в их доме на улице Винез открыты. Они так любили барыню раньше, они были бы так рады повидать ее! Жуя эти обрывки фраз, старуха присматривалась к господину Рамбо. Он слушал ее с обычным своим спокойствием. Воскрешенные ею воспоминания не вызвали даже тени на его невозмутимо ясном лице. Ему только показалось, что назойливость старой нищенки утомляет Элен; пошарив у себя в кармане, он в свою очередь подал старухе милостыню и знаком дал ей понять, чтобы она удалилась. Увидев вторую серебряную монету, тетушка Фетю рассыпалась в благодарностях. Она купит немного дров, обогреется, – только это теперь успокаивает ей резь в животе… Да, настоящие голубки! Взять хотя бы то, что жена доктора родила ему прошлой зимой второго ребенка, прелестную девочку, розовенькую и толстенькую, – ей теперь пошел четырнадцатый месяц. В день крестин доктор дал ей на паперти пятифранковую монету. Да, есть еще на свете добрые сердца, барыня приносит ей счастье. Спаси Господи добрую барыню от всякого горя, осыпь ее благодеяниями! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа – аминь!
Она ушла, бормоча на ходу три «Отче наш» и три «Богородицы». Элен, выпрямившись, смотрела на Париж. Снег перестал падать – последние хлопья медлительно-устало легли на крыши, и в необъятном жемчужно-сером небе, за тающими туманами, золотистые лучи солнца зажгли розовый отсвет. Одна-единственная полоса голубизны, над Монмартром, окаймляла горизонт такой прозрачной и нежной лазурью, что казалась тенью, отброшенной белым атласом. Париж выступал из тумана, все шире расстилаясь снеговыми просторами в своем оцепенении, сковавшем его неподвижностью смерти. Летучая крапчатость снежинок уже не оживляла город тем трепетом, бледные струи которого дрожали на рыжевато-ржавых фасадах. Дома – черные; словно заплесневевшие от многовековой сырости, проступали из-под белых покровов, под которыми они спали. Целые улицы, с покоробившимися крышами, разбитыми окнами были словно разрушены, разъедены селитрой. Виднелся окруженный белыми стенами квадрат площади, заваленный обломками. Но по мере того как над Монмартром расширялась голубая полоса, проливая свет, ясный и холодный, как ключевая вода, Париж, словно видимый сквозь хрустальное стекло, вырисовывался с четкостью японского рисунка, вплоть до отдаленных предместий.
Закутанная в меховое манто, бессознательно перебирая пальцами края рукавов, Элен думала. Одна и та же единственная мысль непрестанно возвращалась к ней, словно эхо: у них родился ребенок – розовенькая, пухленькая девочка; и она представляла ее себе в том очаровательном возрасте, когда Жанна начинала говорить. Маленькие девочки так милы в четырнадцать месяцев! Она считала месяцы; четырнадцать и девять месяцев ожидания – это составляло почти два года; как раз то же время, с разницей в каких-нибудь две недели. И перед ней возникло солнечное видение: Италия, страна мечты, с золотыми плодами, где влюбленные, обнявшись, уходят в благоухающую ночь. Анри и Жюльетта шли перед нею в лунном свете. Они ласкают друг друга, как супруги, вновь ставшие любовниками. Маленькая девочка, розовенькая, толстенькая, голенькое тельце которой смеется на солнце; она пытается лепетать неясные слова, заглушаемые поцелуями матери. Элен думала об этом без гнева, без ропота, в глубоком спокойствии – спокойствии печали. Страна солнца исчезла; она обвела медленным взором Париж, огромное тело которого коченело в зимней стуже. Казалось, то мраморные исполины распростерлись в царственном, холодном покое, истомленные древним страданием, которого они уже не чувствовали. Голубой просвет проглянул над Пантеоном.
Воспоминания Элен уходили в прошлое. Возвратившись в Марсель, она жила в каком-то оцепенении. Однажды утром, проходя улицей Птит-Мари, она разрыдалась, увидев дом, где прошло ее детство. То были ее последние слезы. К ней часто заходил господин Рамбо; она ощущала его возле себя, как надежный оплот. Он ничего не требовал, никогда не говорил ей о своих чувствах.
Однажды осенью он пришел к ней с покрасневшими от слез глазами, сломленный глубоким горем: умер его брат, аббат Жув. Она в свою очередь утешала его. Элен не помнила ясно, что было дальше. Ей все время чудилось, что позади них стоит аббат, она поддавалась той кроткой примиренности, которой ее окутывал преданный друг. Раз он лелеял все ту же мечту, она не находила причин для отказа, это решение казалось ей вполне разумным. Срок траура Элен истекал; по своему собственному почину она трезво обсудила все подробности с господином Рамбо. Руки ее старого друга дрожали от бесконечной нежности. Все будет так, как она захочет: он ждал много месяцев, ему довольно одного лишь знака. Они венчались в черных одеждах. В брачный вечер он тоже целовал ее обнаженные ноги, прекрасные ноги статуи, словно вновь ставшие мраморными. И все дальше в прошлое развертывался свиток жизни.
Глядя на расширявшуюся у горизонта голубую полосу неба, Элен дивилась пробуждавшимся в ней воспоминаниям. Или она была безумна в тот год? Теперь, когда она вызывала в себе образ той женщины, что прожила около трех лет на улице Винез, ей казалось, что она судит о чужом человеке, поведение которого вызывает в ней презрение и удивление. Что за приступ загадочного безумия, что за страшная болезнь, слепая, как удар молнии! А ведь она не призывала ее; она жила спокойно, уединившись в своем уголке, поглощенная страстной любовью к дочери. Путь жизни пролегал перед ней, она шла по нему без любопытства, без желаний. И вдруг налетел вихрь, она упала наземь. Еще и теперь она ничего не понимала. В ту пору ее существо перестало ей принадлежать, другая женщина действовала в ней. Неужели это было возможно? Неужели она могла это сделать? Потом холод пронизал ее: Жанну уносили под розами. И тогда, застыв в своем горе, она вновь обрела прежний нерушимый мир, без желаний, без любопытства, медленно ступая все дальше по неуклонно прямому пути. Она вновь вернулась к жизни – со строгим спокойствием и гордостью честной женщины.
Господин Рамбо шагнул к Элен, желая увести ее из этой обители скорби, но она знаком дала ему понять, что ей хочется еще побыть здесь. Подойдя к ограде, она смотрела на вереницу старых, потрепанных карет, вытянувшуюся вдоль тротуара аллеи Ла-Мюэтт. Побелевшие кузова и колеса, лошади, словно замшелые, казалось, с давних пор гнили там. Кучера сидели неподвижно, застыв в своих обледенелых плащах. По снегу, один за другим, с трудом двигались другие экипажи. Лошади скользили, вытягивали шею, возницы, слезши с козел, ругались и тянули их под уздцы; за стеклами карет можно было разглядеть лица терпеливых седоков, откинувшихся на подушки, примирившихся с мыслью потратить три четверти часа на поездку, которая в другую погоду заняла бы десять минут. Звуки были точно приглушены ватой; в мертвом покое улиц выделялись лишь голоса, звучавшие как-то особенно отчетливо и резко: оклики, смех людей, захваченных гололедицей врасплох, ругань ломовых, щелкающих кнутами, испуганное фырканье лошадей. Дальше, направо, поражали своей красотой высокие деревья набережной. Казалось, то были деревья из витого стекла, огромные венецианские люстры, разветвления которых, унизанные цветами, были затейливо изогнуты фантазией мастера. С северной стороны ветер превратил стволы в колонны. Наверху перепутались опушенные снегом ветви, перистые эгретки, четко вырисовывались очаровательные узоры черных веточек, прочерченных белым. Морозило; в прозрачном воздухе не проносилось ни дуновения.
И Элен говорила себе, что она не знала Анри. В течение года она виделась с ним почти каждый день, он часами сидел с ней рядом, беседуя с ней, погружая свой взгляд в ее глаза. Она не знала его. Однажды вечером она отдалась, и он взял ее. Она не знала его. Она делала огромное усилие – и все же ничего не могла понять. Откуда он пришел? Как очутился рядом с ней? Кто он был, что она поддалась его настояниям, она, которая скорее умерла бы, чем отдалась другому? Она не знала, – то было головокружение, помрачившее ее рассудок. В последний, как и в первый день, он оставался ей чужим. Тщетно соединяла она воедино отдельные, разрозненные мелочи – его слова, его поступки, все, что она помнила о нем. Он любил свою жену и своего ребенка, он улыбался тонкой улыбкой, у него были корректные манеры благовоспитанного человека. Потом ей представлялось его пылающее лицо, блуждающие в огне желаний руки. Шли недели, он исчезал, унесенный потоком. Теперь она не могла бы сказать, где говорила с ним в последний раз. Он ушел, его тень ушла с ним. У их романа не было иной развязки. Она не знала его.
Над городом раскинулось голубое, без единого пятнышка, небо. Элен подняла голову, утомленная воспоминаниями, счастливая этой чистотой. То была прозрачная голубизна, очень бледная, – голубой отблеск, ускользающий в белизне солнечного света. Солнце, низко у горизонта, сияло подобно серебряному светильнику. Оно горело без жара, отражаясь на снегу, среди застывшего ледяного воздуха. Внизу широкие кровли, черепицы Военной пекарни, шифер крыш вдоль набережной расстилались белыми простынями, подрубленными черным. По ту сторону реки квадрат Марсова поля развертывался степью, где темные точки далеких экипажей напоминали русские сани, скользящие под звон колокольчиков; вязы набережной д’Орсе, уменьшенные расстоянием, тянулись узором острых веток в соцветиях кристаллов. В неподвижности этого ледяного моря Сена катила мутные воды между крытых берегов, опушивших ее горностаем. Со вчерашнего дня шел лед; можно было ясно различить у быков моста Инвалидов, как льдины, разбиваясь, исчезали под арками. Дальше, подобные белым кружевам, все более утончающимся, мосты ступенями уходили к сверкающим скалам Старого города, над которым высились снеговые вершины башен собора Парижской Богоматери. Налево – другие остроконечные выси разрывали однообразную равнину бесконечных кварталов. Церковь Св. Августина, Оперный театр, башня Св. Иакова были словно горы, где царствуют вечные снега; ближе – павильоны Тюильри и Лувра, связанные между собой новыми строениями, вырисовывались очертаниями горного хребта с ослепительно-белыми вершинами. И направо виднелись убеленные снегом вершины: Дом инвалидов, церковь Св. Сульпиция, Пантеон, – последний очень далеко, вычерчиваясь на лазури подобием волшебного замка, облицованного голубоватым мрамором. Не доносилось ни голоса. По серым щелям угадывались улицы, перекрестки казались провалами. Исчезли целые ряды домов. Только ближайшие фасады можно было узнать по бесчисленным черточкам их окон. Дальше – снежные покровы, сливаясь воедино, терялись в ослепительной дали, образуя как бы озеро, голубые тени которого продолжали голубизну неба. Париж, огромный и ясный, сверкал в сиянии этого морозного дня под серебряным солнцем.







