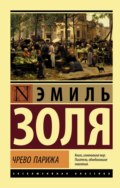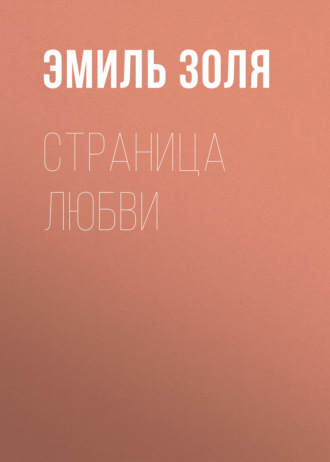
Эмиль Золя
Страница любви
Она не слушала его, в предельном волнении пытаясь наконец разобраться в собственных чувствах. Приглушенным шепотом вырвалось у нее признание:
– Ну, так знайте: да, я люблю… И это все. Больше я ничего, ничего не знаю.
Теперь он старался не прерывать ее. Она возбужденно говорила короткими, отрывистыми фразами; ей доставляло горькую радость признаться в своей любви, разделить с этим старцем тайну, уже столько времени душившую ее.
– Клянусь вам, я не могу разгадать то, что во мне происходит… Это чувство пришло без моего ведома, может быть, внезапно, однако сладость его я почувствовала лишь позднее. Да и к чему изображать себя более сильной, чем я есть? Я не пыталась бежать, я была слишком счастлива, а теперь во мне еще меньше мужества… Подумайте – моя дочь была так больна, я едва не лишилась ее. И что же? Моя любовь оказалась столь же глубокой, как и мое страдание: всесильная, она вернулась после этих страшных дней, и я в ее власти, и она увлекает меня…
Она трепетно перевела дыхание.
– Словом, у меня нет больше сил… Вы были правы, мой друг, мне легче оттого, что я открываю вам все это… Но я прошу вас – скажите мне, что творится в глубине моей души? Я была так спокойна, так счастлива. Будто молния ударила в мою жизнь. Почему именно в мою? Почему не в другую? Я ничего не сделала для этого, я считала себя надежно огражденной… И если б вы только знали! Я больше не узнаю себя… Ах! Помогите мне, спасите меня.
Видя, что она замолчала, священник машинально, с привычной прямотой духовника, задал вопрос:
– Имя, скажите мне имя!
Она колебалась. Необычный звук заставил ее повернуть голову: то кукла в руках господина Рамбо возвращалась мало-помалу к своей искусственной жизни. Скрипя еще плохо действующим механизмом, она прошла три шага по столику, потом опрокинулась навзничь и, не будь господина Рамбо, полетела бы на пол. Он следил за ней, протянув руки, готовый поддержать ее, полный отеческой тревоги. Увидя, что Элен повернулась к нему, он доверчиво улыбнулся ей, как бы обещая, что кукла будет ходить, и вновь продолжал ковырять игрушку шилом и ножницами. Жанна спала.
Элен, поддавшись обаянию этой мирной картины, шепнула имя на ухо священнику. Тот остался неподвижен. В сумраке нельзя было разглядеть его лица. Настала пауза.
– Я это знал, но хотел услышать ваше признание, – сказал он. – Вам, верно, очень тяжело, дочь моя.
Он не произнес ни одной банальной фразы относительно ее долга. Элен, обессиленная, исполненная бесконечной грусти пред лицом этого кроткого сострадания, вновь принялась следить глазами за искрами, сверкавшими, точно золотые блестки на темном плаще Парижа. Они умножались до бесконечности, напоминая перебегание огоньков по черному пеплу сожженной бумаги. Сначала блестящие точки потянулись от Трокадеро к сердцу города. Вскоре другой очаг их появился налево, у Монмартра, потом третий – направо, за Домом инвалидов, еще дальше вглубь, в стороне Пантеона – четвертый. От всех этих очагов одновременно разлетались бесчисленные огоньки.
– Вы помните наш разговор? – медленно продолжал аббат. – Мое мнение не изменилось… Вам нужно выйти замуж, дочь моя.
– Мне? – сказала она, подавленная. – Но я ведь только что призналась вам… Вы же знаете, что я не могу…
– Вам нужно выйти замуж, – повторил он с силой. – Вашим мужем будет честный человек…
В своей изношенной сутане он казался теперь выше прежнего. Большая, немного смешная голова, которую он, полуопустив веки, обычно склонял к плечу, теперь была высоко поднята, а широко раскрытые глаза так светлы, что она видела их сияние в полумраке.
– Вашим мужем будет честный человек, который заменит Жанне отца и вернет вас вашему долгу.
– Но я не люблю его… Боже мой! Я не люблю его…
– Вы полюбите его, дочь моя… Он любит вас, и он добрый.
Элен сопротивлялась. Она понижала голос, слыша за своей спиной тихий шум работы господина Рамбо. Он был так долго терпелив и так тверд в одушевлявшей его надежде, что в течение шести месяцев ни разу не потревожил ее напоминанием о своей любви. Он ждал с доверчивым спокойствием, бесхитростно готовый к героическому самоотречению.
Священник сделал движение, как бы желая обернуться.
– Хотите, я все ему скажу?.. Он протянет вам руку, он спасет вас. А вы преисполните его безмерной радостью.
Она в смятении остановила его. Ее душа возмущалась. Они оба страшили ее, – эти мирные, кроткие люди, разум которых оставался невозмутимым рядом с ее лихорадочной страстью. В каком мире жили они, чтобы так отрицать все то, что принесло ей столько страданий? Широким движением руки священник указал ей на раскинувшиеся дали.
– Дочь моя, взгляните на эту прекрасную ночь, на этот нерушимый покой, – что перед ними ваше страстное волнение! Почему вы не хотите быть счастливой?
Весь Париж был освещен. Пляшущие огоньки усеяли мрак от одного края горизонта до другого, и теперь миллионы их звезд сияли недвижно в ясности теплой летней ночи. Ни единое дуновение ветерка, ни единый трепет не тревожил эти светочи, казалось, повисшие в пространстве. Они продолжали невидимый во тьме Париж в глубины бесконечности, расширили его до небосвода. Внизу, у подножия Трокадеро, чертящей ракетой падающей звезды прорезал порою ночь быстро убегающий свет – фонари фиакра или омнибуса; в сиянии газовых рожков, напоминавшем желтый туман, смутно различались чуть брезжущие фасады, группы деревьев, ярко-зеленых, как на декорациях. На мосту Инвалидов звезды скрещивались непрерывно, тогда как внизу, вдоль ленты более густого мрака, вырисовывалось чудо – стая комет, золотые хвосты которых рассыпались дождем искр: то отражались в черных водах Сены горевшие на мосту фонари. Дальше начиналось неведомое. Длинный изгиб реки обозначался двойной вереницей газовых рожков, пересекаемой через равные промежутки другими вереницами; казалось, то пролегла через Париж световая лестница, утвердившись концами на краях неба, в звездах. Другая световая просека уходила влево – это Елисейские Поля тянулись правильной чередой светил от Триумфальной арки до площади Согласия; там переливалась лучами целая плеяда. Дальше Тюильрийский дворец, Лувр, скопления прибрежных домов, и в самой глубине здание ратуши прорезались темными полосами, изредка разделяемыми блестящим квадратом широкой площади. Еще дальше, среди разбегавшихся во все стороны крыш, фонари рассеивались, ничего нельзя было разобрать; только кое-где выступал провал улицы, поворот бульвара, пылающий квадрат перекрестка. На другом берегу реки, направо, отчетливо вырисовывалась только Эспланада, напоминая прямоугольником своих огней сверкающий в зимней ночи Орион, обронивший пояс; вдоль длинных улиц Сен-Жерменского квартала печально тянулись редкие фонари; за ними частыми огоньками, словно расплывчатым сиянием небесной туманности, горели другие, многолюдные кварталы. До самых предместий по всему кругу горизонта раскинулся муравейник газовых рожков и освещенных окон, наподобие пыли, заполнившей дали города мириадами солнц, планетами-атомами, недоступными для человеческого взора. Здания утонули в этом море, ни единого фонаря не было на их вышках. Мгновениями можно было подумать, что это – картина какого-то титанического празднества, какого-то блистающего иллюминацией циклопического здания, с его лестницами, балюстрадами, окнами, фронтонами, террасами, всем его каменным миром, чьи необычные и колоссальные формы обрисовывались мерцающими линиями фонарей. Но основным, все возвращавшимся ощущением было ощущение рождения созвездий, непрерывного расширения неба.
Глаза Элен устремились туда, куда указывал широкий жест священника, – она обняла долгим взглядом сверкавший огнями Париж. Здесь ей также были неведомы названия звезд. Она охотно спросила бы, что это за яркое светило налево, – она каждый вечер смотрела на него. Были и другие, занимавшие ее. Одни она любила, другие пробуждали в ней тревогу и неприязнь.
– Отец мой, – сказала она, впервые употребляя это слово, полное нежности и уважения, – дайте мне жить… Красота этой ночи – вот что взволновало меня… Вы ошиблись: не в ваших силах теперь утешить меня, раз вы не можете меня понять.
Священник раскинул руки, потом медлительным жестом покорности вновь опустил их. Наступило молчание. Он заговорил вполголоса:
– Конечно, так оно и должно быть. Вы призываете на помощь и отказываетесь от спасения. Сколько признаний, полных отчаяния, слышал я и скольких слез не смог предотвратить… Послушайте, дочь моя, обещайте мне одно: если когда-нибудь жизнь сделается для вас слишком тяжелой, подумайте о том, что есть честный человек, который любит и ждет вас… Вам достаточно будет протянуть ему руку, чтобы вновь обрести покой.
– Обещаю вам это, – с глубокой серьезностью сказала Элен.
И в тот миг, когда она произносила этот обет, в комнате послышался легкий смех. То смеялась Жанна, – она проснулась и глядела на куклу, шагавшую по столику. Господин Рамбо, в восторге от своей починки, по-прежнему протягивал руки, опасаясь какого-нибудь несчастного случая. Но кукла была прочно слажена: она стучала каблуками, поворачивала головку, голосом попугая выговаривая на каждом шагу одни и те же слова.
– Вот так фокус, – лепетала еще заспанная Жанна. – Что ты с ней такое сделал? Она была сломана, а теперь опять живая… Дай-ка сюда, покажи… Какой ты милый…
Над блестевшим огнями Парижем восходило светящееся облако, – будто веяло багряное дыхание раскаленных углей. Сначала то был лишь бледный просвет в ночи, чуть уловимый отблеск. Постепенно, по мере того как шли часы, оно стало кроваво-красным, и, вися в воздухе, неподвижно раскинувшись над городом, сотканное из всей сумрачно рокочущей жизни Парижа, оно казалось одной из тех туч, чреватых молниями и пожарами, которые венчают жерла вулканов.
Часть четвертая
I
Уже подали чашки с полосканьем; дамы осторожно вытирали руки. Вокруг стола на минуту наступило молчание. Госпожа Деберль оглядела обедавших, чтобы убедиться, все ли кончили, затем молча встала; гости последовали ее примеру, слышался шум отодвигаемых стульев. Старый господин, сидевший справа от нее, поспешил предложить ей руку.
– Нет, нет, – проговорила она, сама ведя его к двери. – Мы будем пить кофе в маленькой гостиной.
Гости парами проследовали за ней. Последними шли двое мужчин и две дамы. Они продолжали начатый разговор, не присоединяясь к шествию. Но в маленькой гостиной принужденность исчезла и возобновилось царившее за десертом веселье. На большом лакированном подносе, стоявшем на круглом столике, уже был подан кофе. Госпожа Деберль обходила присутствующих с любезностью хозяйки дома, старающейся удовлетворить все вкусы гостей. По правде сказать, больше всех суетилась Полина – она взялась потчевать мужчин. В гостиной было человек двенадцать – обычное число лиц, приглашаемых четой Деберль к обеду по средам, начиная с декабря. Вечером, к десяти часам, собиралось много народу.
– Господин де Гиро, чашку кофе, – сказала Полина, остановясь перед маленьким лысым человечком. – Впрочем, я знаю: вы не пьете кофе… Тогда рюмочку шартреза?
Но, сбившись, она принесла рюмку коньяку. И, улыбаясь с присущей ей самоуверенностью, она обходила приглашенных, глядя им прямо в глаза, непринужденно волоча за собой длинный шлейф. На ней было роскошное белое платье из индийского кашемира, отделанное лебяжьим пухом, с четырехугольным вырезом на груди. Вскоре все мужчины стояли с чашками в руках; выставив подбородок, они маленькими глотками пили кофе. Тогда Полина принялась за высокого молодого человека, сына богача Тиссо, – она находила, что у него красивое лицо.
Элен отказалась от кофе. Она села в стороне, с несколько утомленным видом; на ней было простое, без отделки, черное бархатное платье, строгими складками облегавшее ее фигуру. В маленькой гостиной курили. Ящики с сигарами стояли близ Элен на подзеркальнике. Подошел доктор.
– Жанна чувствует себя хорошо? – спросил он, выбирая сигару.
– Очень хорошо, – отвечала она. – Мы сегодня были в Булонском лесу. Она резвилась неудержимо… Теперь она уже спит, вероятно…
Они дружески беседовали, улыбаясь друг другу с непринужденностью людей, встречающихся ежедневно. Послышался голос госпожи Деберль:
– Да вот госпожа Гранжан может подтвердить это… Не правда ли, я вернулась из Трувиля около десятого сентября? Шли дожди, пляж был невыносим…
Ее окружали три или четыре дамы: она рассказывала им о своем пребывании на берегу моря. Элен пришлось встать и присоединиться к их группе.
– Мы провели месяц в Динаре, – сообщила госпожа де Шерметт. – О! Прелестная местность, очаровательное общество!
– Позади виллы был сад, спереди – терраса, выходившая на море, – продолжала госпожа Деберль. – Вы знаете, я решилась взять с собой свое ландо и кучера… Это гораздо удобнее для прогулок… Госпожа Левассер навестила нас…
– Да, как-то в воскресенье, – сказала та. – Мы были в Кабуре. О, вы устроились со всеми удобствами – немного дорого, кажется…
– Кстати, – перебила, обращаясь к Жюльетте, госпожа Бертье, – господин Малиньон так и не научил вас плавать?
Элен заметила, что на лице госпожи Деберль промелькнуло выражение замешательства и досады. Уже несколько раз ей казалось, что имя Малиньона, когда его неожиданно произносили перед госпожой Деберль, действовало на нее неприятно. Но молодая женщина уже оправилась.
– Хорош пловец! – воскликнула она. – Навряд ли он кого-нибудь научит… Что до меня, – я отчаянно боюсь холодной воды. При одном виде купающихся меня бросает в дрожь.
И она кокетливо поежилась, приподняв округлые плечи, как отряхивающаяся мокрая птица.
– Так это выдумка? – спросила госпожа де Гиро.
– Ну конечно. Пари держу, что он же и сочинил это. Он терпеть меня не может с тех пор, как провел там месяц вместе с нами.
Прибывали новые гости. Дамы, с цветами в волосах, улыбались, округляя руки, кивая головой; мужчины, во фраках, со шляпой в руке, кланялись, стараясь подыскать любезные фразы. Госпожа Деберль, продолжая беседовать, протягивала кончики пальцев завсегдатаям дома; многие, не сказав ни слова, кланялись и проходили дальше. Вошла мадемуазель Орели. Она тотчас принялась восторгаться платьем Жюльетты: то было темно-синее платье тисненого бархата, отделанное фаем. Тогда присутствующие дамы будто впервые разглядели его. О, обворожительно, совершенно обворожительно! Оно было от Вормса. Минут пять проговорили о нем. Кофе был допит, гости ставили пустые чашки на поднос, на подзеркальники; только один старый господин никак не мог допить своей чашки, останавливаясь после каждого глотка, чтобы поговорить со своей соседкой. Поднималось жаркое благоухание – аромат кофе сливался с чуть уловимым запахом духов.
– Вы знаете, что вы меня ничем не угостили? – сказал молодой Тиссо Полине, рассказывавшей ему о каком-то художнике, у которого она побывала с отцом, чтобы посмотреть его картины.
– Как ничем? Я принесла вам чашку кофе.
– Нет, мадемуазель, уверяю вас…
– Но я непременно хочу, чтобы вы что-нибудь выпили… Постойте, вот вам шартрез.
Госпожа Деберль едва заметным движением головы подозвала мужа. Доктор, поняв ее, открыл дверь в большую гостиную. Все перешли туда, а слуга между тем унес поднос. В просторной комнате, освещенной ярким белым светом шести ламп и десятисвечной люстры, было прохладно. Перед камином уже сидело полукругом несколько дам; только двое-трое мужчин стояли среди широко протянувшихся шлейфов. Сквозь открытую дверь гостиной цвета резеды послышался резкий голос Полины, остававшейся вдвоем с молодым Тиссо:
– Раз уж я вам налила рюмку, вы должны ее выпить без всяких разговоров… Что мне с ней делать?.. Пьер убрал поднос.
Она появилась на пороге, вся белая в своем платье, отделанном лебяжьим пухом. С улыбкой на румяных губах, блеснув зубами, она объявила:
– Красавец Малиньон!
Рукопожатия и поклоны продолжались. Доктор Деберль стал у двери. Госпожа Деберль, сидевшая среди дам на низком кресле, поминутно вставала с места. Когда вошел Малиньон, она подчеркнуто отвернулась. Он был одет весьма тщательно, волосы слегка подвиты, пробор доходил до затылка. Остановившись на пороге, он с легкой гримасой, «шикарной», как говорила Полина, вставил в правый глаз монокль и окинул взором гостиную. Ничего не говоря, он лениво пожал руку доктору, потом, подойдя к госпоже Деберль, согнул перед ней высокий стан, стянутый фраком.
– А, это вы! – сказала она так, чтобы ее услышали кругом. – Теперь, оказывается, вы умеете плавать?
Он не понял, но все-таки ответил, желая блеснуть остроумием:
– Конечно… Однажды я спас тонувшую собаку-водолаза.
Дамы нашли его ответ очаровательным. Сама госпожа Деберль, казалось, была обезоружена.
– Собак, так и быть, разрешаю вам, – ответила она. – Но ведь вы же отлично знаете, что я ни разу не купалась в Трувиле.
– А! Тот урок плавания, который я дал вам? – воскликнул он. – Ну что ж! Разве однажды вечером в вашей столовой я не сказал вам, что, если хочешь плавать, нужно двигать ногами и руками?
Все дамы рассмеялись. Он был обворожителен! Жюльетта пожала плечами. С ним нельзя говорить серьезно. И она встала, чтобы пойти навстречу новой гостье, талантливой пианистке, которая была у нее в первый раз. Сидя у камина, Элен смотрела и слушала с присущим ей невозмутимым спокойствием. Особенно интересовал ее Малиньон. Она заметила, как искусно он маневрировал, чтобы приблизиться к госпоже Деберль. Элен слышала позади себя ее реплики. Вдруг голоса изменились. Элен откинулась назад, чтобы яснее расслышать их.
– Почему вы не пришли вчера? Я ждал вас до шести часов, – произнес Малиньон.
– Оставьте меня! Вы с ума сошли! – прошептала Жюльетта.
Малиньон, картавя, повысил голос:
– А! Вы не верите, что я спас собаку-водолаза? Но мне ведь дали медаль; я покажу вам ее!
И он добавил чуть слышно:
– Вы же обещали мне… Вспомните…
Вошло целое семейство. Госпожа Деберль рассыпалась в любезностях, а Малиньон, с моноклем в глазу, вновь появился среди дам. Элен сидела, вся побледнев от этих торопливо сказанных, случайно подслушанных ею слов. Они явились для нее ударом грома, чем-то неожиданным и чудовищным. Эта женщина – такая счастливая, с таким спокойным, цветущим, холеным лицом, – как могла она изменять своему мужу? Да еще с каким-то Малиньоном! Она знала птичий ум Жюльетты, знала тот скрытый под светской любезностью эгоизм, который ограждал ее от минутного увлечения и его докучных последствий. Она вдруг вспомнила послеполуденные часы в саду, Жюльетту, нежно улыбающуюся под поцелуем, которым доктор касался ее волос. Ведь они все же любили друг друга! И необъяснимое чувство охватило ее – гнев против Жюльетты, как будто измена коснулась ее самой. Она испытывала унижение за Анри. В ней поднималась ревнивая ярость. Волнение Элен так ясно читалось на ее лице, что мадемуазель Орели спросила ее:
– Что с вами? Вам нездоровится?
Увидев, что Элен одна, старая дева подсела к ней. Она выражала ей живейшую дружбу, очарованная вежливым вниманием, с которым такая серьезная и красивая молодая женщина часами выслушивала ее сплетни.
Но Элен ничего не ответила ей. У нее была потребность увидеть Анри, сейчас же узнать, что он делает, что с ним. Приподнявшись, она начала искать его глазами. Анри стоя беседовал с каким-то толстым бледным господином; он казался спокойным, довольным, улыбался своей тонкой улыбкой. Мгновение Элен смотрела на него. Она чувствовала к нему жалость, несколько умалявшую его в ее глазах, но в то же время любила его еще больше, – любовью, в которую теперь вошла смутная мысль о том, что ей следует защитить Анри. У нее было ощущение, еще очень неясное, что она должна вознаградить его за утраченное счастье.
– Ну-ну, – говорила вполголоса мадемуазель Орели. – Весело будет, нечего сказать, если сестра госпожи де Гиро вздумает петь… Я уже в десятый раз слышу «Голубков». Она только их и поет всю эту зиму… Вы знаете, она разошлась с мужем. Посмотрите на этого брюнета, там у двери. Они в самых близких отношениях. Жюльетте приходится его принимать, иначе эта дама перестанет бывать у нее.
– Вот как! – сказала Элен.
Госпожа Деберль быстро переходила от группы к группе, прося всех замолчать, чтобы послушать пение сестры госпожи де Гиро. Гостиная была полна. Десятка три дам сидели посредине ее, перешептываясь и смеясь; две стоя беседовали более громко, с манерной грацией поводя плечами; пять-шесть мужчин, затерянные среди юбок женщин, держали себя непринужденно, как дома. Пробежало несколько сдержанных «тсс!». Лица стали неподвижными и скучающими; слышалось только трепетание вееров в горячем воздухе.
Сестра госпожи де Гиро пела, но Элен не слушала ее. Теперь она смотрела на Малиньона. Он, казалось, наслаждался «Голубками», прикидываясь страстным любителем музыки. Возможно ли! Этот молодчик! Они, верно, играли в какую-то опасную игру в Трувиле. Подслушанные Элен слова, по-видимому, указывали на то, что Жюльетта еще не сдалась; но падение казалось близким. Сидя перед ней, Малиньон отмечал такт упоенным покачиванием головы; лицо госпожи Деберль выражало любезное восхищение; доктор молчал, с вежливым терпением дожидаясь конца романса, чтобы возобновить свой разговор с бледным толстяком.
Певица умолкла. Раздались негромкие аплодисменты, затем восторженные возгласы:
– Прелестно! Очаровательно!
Красавец Малиньон, подняв поверх дамских причесок затянутые в перчатки руки, беззвучно аплодировал кончиками пальцев, повторяя «браво! браво!» певучим голосом, выделявшимся среди других.
Весь этот энтузиазм тотчас же спал, лица вновь приняли естественное выражение и заулыбались, несколько дам встали с места. Снова, среди всеобщего облегчения, завязались разговоры. Жара усиливалась, туалеты дам под частыми взмахами вееров источали аромат мускуса. Порою, среди смутного гула разговоров, звенел серебристый смех, головы оборачивались на громко сказанное слово. Жюльетта уже трижды ходила в маленькую гостиную умолять удалившихся туда мужчин не бросать дам на произвол судьбы. Они следовали за ней – и через десять минут исчезали снова.
– Это невыносимо! – с досадой шептала Жюльетта. – Не удается удержать ни одного.
Тем временем мадемуазель Орели называла Элен присутствовавших дам: ведь госпожа Гранжан только один раз была до этого на званом вечере у четы Деберль. По словам старой девы, здесь собрался весь цвет буржуазии Пасси, все очень богатые люди. Потом, наклонившись, она прибавила:
– Это решено… Госпожа де Шерметт выдает свою дочь за того высокого блондина, с которым она полтора года была в связи. Уж такая теща по крайней мере будет любить своего зятя.
Она перебила себя, очень удивленная:
– Смотрите-ка, муж госпожи Левассер беседует с любовником своей жены… А ведь Жюльетта поклялась больше не принимать их вместе!
Элен медленно обводила взглядом гостиную. Так, значит, в этом уважающем себя мире, среди этой буржуазии, внешне такой почтенной, не было ни одной женщины, верной своему долгу? Элен, с ее провинциальным ригоризмом, изумляли эти тайные, но всем известные связи, допускаемые укладом парижской жизни. Она горько смеялась над теми страданиями, которые испытывала, когда Жюльетта пожимала ей руку. Поистине – как она глупа со своей добродетельной щепетильностью! Супружеская измена явилась ей здесь как составная часть буржуазного быта, узаконенная лицемерием, с оттенком кокетливо-острой утонченности.
Госпожа Деберль как будто помирилась с Малиньоном. Теперь эта хорошенькая, изнеженная брюнетка, свернувшись клубочком в кресле, смеялась его остротам.
– Значит, вы не ссоритесь сегодня? – спросил доктор, проходя мимо них.
– Нет, – весело отвечала Жюльетта. – Он говорит слишком много глупостей… Если бы ты знал, какие глупости он нам преподносит!
Снова зазвучало пение, но добиться тишины оказалось уже труднее. Молодой Тиссо и дама весьма зрелых лет, но с детской прической, пели дуэт из «Фаворитки». Полина, стоя у одной из дверей, среди черных фраков, смотрела на певца с откровенным восхищением, как смотрят на произведение искусства.
– Какое прекрасное лицо! – вырвалось у нее среди приглушенной фразы аккомпанемента, причем так громко, что все слышали.
Становилось поздно, в чертах приглашенных уже сквозила усталость. На лицах некоторых дам от трехчасового сидения на одном и том же кресле застыло выражение бессознательной, но довольной скуки. Между двух музыкальных номеров, прослушанных краешком уха, вновь завязывались разговоры, как будто продолжая переливы рояля, звучные и пустые. Господин Летелье рассказывал, как он ездил в Лион проследить за выполнением одного заказа – партии шелка, – и там увидел, что воды Соны не смешиваются с водами Роны, – это чрезвычайно его поразило. Господин де Гиро, важный чиновник судебного ведомства, ронял наставительные фразы о необходимости поставить предел падению нравственности в Париже. Кружок слушателей собрался вокруг одного господина, который был знаком с каким-то китайцем и подробно рассказывал о нем. Две дамы в углу рассказывали друг другу о своей прислуге. В группе женщин, где восседал Малиньон, беседовали о литературе: госпожа Тиссо объявила, что Бальзака невозможно читать; Малиньон не опровергал этого утверждения, ограничившись замечанием, что у Бальзака изредка попадается хорошо написанная страница.
– Минутку молчания! – прокричала Полина. – Сейчас будут играть.
То была пианистка, та самая столь талантливая дама. Все из вежливости обернулись. Но среди наступившего молчания послышались басистые голоса мужчин, споривших в маленькой гостиной. Госпожа Деберль, казалось, была в отчаянии. Она из сил выбивалась.
– Какие несносные, – прошептала она. – Уж если не хотят переходить сюда, пусть остаются там, но пусть молчат по крайней мере.
Она послала к ним Полину, та в восторге побежала выполнять поручение.
– Вы знаете, господа, сейчас будут играть, – сказала она со спокойной девичьей смелостью, остановившись в своем царственно-великолепном платье на пороге гостиной. – Вас просят помолчать.
Она громко произнесла эти слова своим резким голосом. А так как она осталась в гостиной среди мужчин, смеясь и обмениваясь с ними шутками, – шум значительно усилился. Спор продолжался, она бойко приводила различные доводы. Госпожа Деберль сидела как на иголках. К тому же все уже устали от музыки, – слушатели остались холодны. Пианистка, поджав губы, вернулась на свое место, не улыбаясь в ответ на преувеличенные комплименты, в которых хозяйка дома сочла нужным рассыпаться.
Элен страдала. Анри, казалось, не замечал ее. Он больше не подходил к ней, только иногда улыбался ей издали. В начале вечера она почувствовала облегчение, видя его благоразумие. Но с тех пор как она узнала о тех двоих, ей хотелось чего-то другого, она сама не знала чего, – какого-нибудь проявления нежности, хотя бы оно даже и скомпрометировало ее. Ее волновало смутное желание, которое сливалось со множеством дурных чувств. Почему он оставался таким равнодушным? Или он больше не любил ее? Конечно, он выжидал удобного времени. Ах, если бы она могла сказать ему все, открыть ему глаза на недостойное поведение женщины, носящей его имя! И под звуки рояля, бегло чеканившего звонкие пассажи, ее баюкала мечта: Анри прогнал Жюльетту, и вот Элен живет с ним как с мужем, в далеких странах, где говорят на незнакомом языке.
Звук голоса заставил ее вздрогнуть.
– Разве вы не хотите закусить? – спрашивала Полина.
Гостиная была почти пуста. Гости перешли в столовую пить чай. Элен поднялась с трудом. Все путалось у нее в голове. Ей казалось, что все это сон – слова, услышанные ею, близкое падение Жюльетты, весь этот буржуазный адюльтер, улыбающийся и мирный. Будь это явь, Анри был бы с нею… они оба уже оставили бы этот дом.
– Вы не откажетесь от чашки чая?
Элен, улыбнувшись, поблагодарила госпожу Деберль, оставившую для нее место за столом. Стол был уставлен тарелками с пирожными и сластями; на плоских вазах симметрично возвышались большая бриошь и два торта; на столе не хватало места – чайные чашки, попарно разделенные узкими серыми салфетками с длинной бахромой, почти касались друг друга. У стола сидели только дамы. Сняв перчатки, они брали кончиками пальцев печенье и глазированные фрукты, передавали друг другу кувшинчик со сливками и сами бережно наливали из него. Три или четыре дамы самоотверженно угощали мужчин. Те пили чай, стоя у стен, принимая всяческие предосторожности, чтобы оградить себя от невольного толчка соседа. Другие, оставшиеся в обеих гостиных, ждали, пока угощение дойдет до них. То был час торжества для Полины. Разговоры стали громче, раздавался смех и кристальный звон серебра, благоухание мускуса сливалось с жарким, густым ароматом чая.
– Передайте-ка мне бриошь, – сказала мадемуазель Орели, сидевшая рядом с Элен. – Все эти сласти – это несерьезно.
Она уже опорожнила две тарелки. Затем, с набитым ртом, заявила:
– Вот и расходиться начинают… Можно будет не стесняться.
Действительно, дамы уходили одна за другой, пожав руку госпоже Деберль. Многие мужчины уже незаметно удалились. Комнаты пустели. Тогда несколько мужчин в свою очередь подсели к столу. Но мадемуазель Орели прочно сидела на своем месте. Она не отказалась бы от стакана пунша.
– Я принесу вам, – сказала, вставая, Элен.
– О нет, благодарю вас… Не трудитесь.
Уже в течение нескольких минут Элен наблюдала за Малиньоном. Пожав руку доктору, он теперь, стоя на пороге, прощался с Жюльеттой. У нее было все то же безмятежное лицо, ясные глаза; глядя на ее любезную улыбку, можно было подумать, что он говорит ей комплименты по поводу ее вечера Пока Пьер наливал Элен пунш на поставце у двери, она незаметно сделала несколько шагов вперед и, спрятавшись за портьерой, прислушалась.
– Прошу вас, – говорил Малиньон, – приходите послезавтра… Я буду ждать вас к трем часам…
– Вы никак не можете быть серьезным, – отвечала, смеясь, госпожа Деберль. – Что за глупости вы говорите!
Но он настаивал:
– Я буду ждать вас… Приходите послезавтра… Вы знаете куда.
Тогда она быстро прошептала:
– Ну хорошо, послезавтра.
Малиньон поклонился и исчез. Госпожа де Шерметт уходила вместе с госпожой Тиссо. Жюльетта весело проводила их до передней, говоря первой с самым любезным видом:
– Я буду у вас послезавтра… У меня уйма визитов в этот день.
Элен, вся бледная, стояла неподвижно. Пьер держал перед ней стакан пунша. Машинально взяв стакан, Элен отнесла его мадемуазель Орели, – та уже принялась за глазированные фрукты.
– О, вы слишком любезны! – воскликнула старая дева. – Я бы подала знак Пьеру… Видите ли, напрасно не предлагают пунша дамам… В моем возрасте…