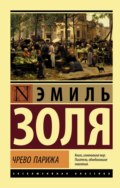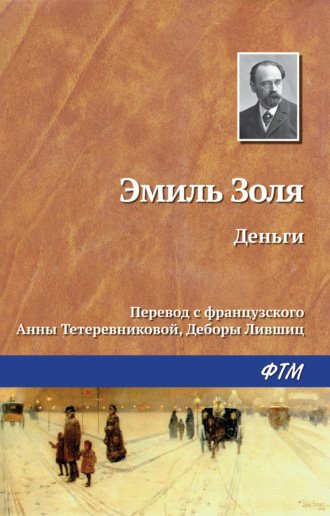
Эмиль Золя
Деньги
2
Когда Саккар, разорившись в результате последней аферы с земельными участками, должен был выехать из своего дворца в парке Монсо и, во избежание еще большей катастрофы, оставить его кредиторам, он хотел было приютиться у своего сына Максима. Последний, после смерти жены, которая покоилась теперь на маленьком кладбище в Ломбардии, один занимал особняк на Авеню Императрицы, где устроил свою жизнь с благоразумным и свирепым эгоизмом; он проживал здесь состояние покойницы, не позволяя себе никаких легкомысленных поступков, как и подобало молодому человеку слабого здоровья; преждевременно состарившемуся от разврата; и он сухо отказал отцу взять его к себе – из предосторожности, чтобы сохранить хорошие отношения, как он объяснял, тонко улыбаясь.
Тогда Саккар стал думать о другом пристанище. Он хотел уже нанять маленький домик в Пасси, мещанское убежище удалившегося от дел коммерсанта, но вспомнил, что первый и второй этажи особняка Орвьедо на улице Сен-Лазар все еще пустуют и стоят с заколоченными дверями и окнами. Княгиня Орвьедо, после смерти мужа занимавшая только три комнаты в третьем этаже, даже не приказала вывесить объявление у въезда во двор, где бурно разрасталась трава. Низенькая дверь на другом конце фасада вела на черную лестницу в третий этаж. И часто Саккар, бывая по делам у княгини, выражал удивление по поводу того, что она пренебрегает возможностью извлечь приличный доход из своего дома. Но она только качала головой, у нее были свои взгляды на денежные дела. Однако, когда Саккар попросил сдать дом лично ему, она тотчас же согласилась, предоставив ему первый и второй этажи за смехотворную плату в десять тысяч франков, хотя это роскошное княжеское помещение, конечно, можно было сдать вдвое дороже.
Многие еще помнили роскошь, которую любил выставлять напоказ князь Орвьедо. В лихорадочной спешке насладиться своим громадным состоянием, нажитым финансовыми операциями, когда на него градом сыпались миллионы, приехав из Испании и поселившись в Париже, он купил и отремонтировал этот особняк, в ожидании дворца из мрамора и золота, которым он мечтал удивить мир. Здание было построено еще в прошлом веке; это был один из тех предназначенных для развлечений домов, которые веселящиеся вельможи окружали обширными садами, но частью разрушенный и перестроенный в более строгих пропорциях; от парка, который примыкал к нему прежде, остался только широкий двор, окруженный конюшнями и каретными сараями, да и его вскоре должны были уничтожить при ожидавшейся прокладке улицы Кардинала Феша. Князь купил его у наследников представительницы рода Сен-Жермен, владения которой простирались раньше до улицы Труа-Фрер, бывшей прежде продолжением улицы Тетбу. Кроме того, сохранились ворота, ведущие во двор дома с улицы Сен-Лазар, рядом с другим большим зданием той же эпохи, прежней виллой Бовилье, которую Бовилье, постепенно разорявшиеся владельцы, до сих пор еще занимали; им же принадлежали остатки чудесного сада, великолепные деревья которого тоже должны были погибнуть при перепланировке этого квартала.
Саккар, хоть и был разорен, таскал за собой целый хвост прислуги, остатки слишком многочисленной дворни – лакея, повара с женой, заведовавшей бельем, еще одну женщину, не имевшую никаких обязанностей, кучера и двух конюхов; он занял конюшни и каретные сараи, поставил там двух лошадей, три экипажа, в нижнем этаже устроил столовую для своих людей. У этого человека не было верных пятисот франков, но он жил на широкую ногу, как будто имел двести или триста тысяч франков в год. Поэтому он сумел заполнить своей особой обширные апартаменты второго этажа, три гостиных, пять спален, не считая громадной столовой, где когда-то накрывали стол на пятьдесят персон. Прежде там была дверь на внутреннюю лестницу, ведущую в третий этаж, в другую столовую, поменьше, но княгиня, недавно сдавшая эту часть третьего этажа одному инженеру, господину Гамлену, холостяку, живущему вдвоем с сестрой, наглухо закрыла эту дверь двумя крепкими болтами. Вместе с этими жильцами она пользовалась черной лестницей, а парадная была предоставлена в распоряжение Саккара. У него оставалась кое-какая мебель из особняка в парке Монсо, ее не хватило на все комнаты, но все же она немного оживила эту анфиладу голых и печальных стен, с которых на другой же день после смерти князя словно чья-то упрямая рука сорвала даже последние куски обоев. И здесь он мог снова предаваться мечтам о богатстве.
Княгиня Орвьедо была в то время одной из замечательных личностей Парижа.
Пятнадцать лет тому назад, повинуясь категорическому приказанию своей матери, герцогини де Комбевиль, она согласилась выйти замуж за князя, хотя и не любила его. Эта двадцатилетняя девушка славилась тогда своей красотой и благонравием, была очень набожна и чересчур серьезна, хотя страстно любила светскую жизнь. Она ничего не знала о странных слухах, ходивших о князе, о происхождении его сказочного богатства, оценивавшегося в триста миллионов, о том, что он всю жизнь занимался ужасающим грабежом – не с оружием в руках на большой дороге, как благородные авантюристы прошлого, а как корректный современный бандит, среди бела дня запускающий руки в карманы бедного доверчивого люда, обреченного на разорение и гибель. Там, в Испании, и здесь, во Франции, в течение двадцати лет князь урывал себе львиную долю во всех крупных, вошедших в легенду жульнических аферах. Она и не подозревала, что его миллионы подобраны в крови и грязи, но с первой же встречи почувствовала к нему отвращение, превозмочь которое были бессильны даже ее религиозные убеждения. Вскоре к ее антипатии присоединилось и глухое, все растущее озлобление, вызванное тем, что от этого брака, на который она согласилась, повинуясь матери, у нее не было ребенка. Материнства было бы достаточно для ее счастья, она обожала детей и стала ненавидеть этого человека за то, что, не сумев пробудить в ней чувств любовницы, он даже не смог сделать ее матерью. Тогда княгиня с головой окунулась в неслыханную роскошь и, ослепляя Париж блеском своих празднеств, окружила себя таким великолепием, что, говорят; ей завидовали даже в Тюильри. Потом вдруг, на другой же день после смерти князя, сраженного апоплексическим ударом, особняк на улице Сен-Лазар погрузился в глубокое молчание, в полный мрак. Нигде не видно было света, не слышно шума, двери и окна были закрыты, и пошли слухи, что княгиня внезапно выехала из первого и второго этажей и уединилась в трех маленьких комнатках третьего, оставив при себе только бывшую горничную своей матери, вынянчившую ее старушку Софи. Когда она снова стала выходить из дома, на ней было простое черное шерстяное платье, а волосы спрятаны под кружевной косынкой. Она была небольшого роста и по-прежнему полная. Лицо с узким лбом и рот с жемчужными зубами были все так же красивы, но кожа пожелтела, а сжатые губы выражали немую волю, направленную на одну цель, как у монахини, уже давно ушедшей от мира. Ей тогда только что исполнилось тридцать лет, и с тех пор она стала жить исключительно для своей грандиозной благотворительности.
В Париже все были поражены, пошли всякие необыкновенные слухи. Княгиня унаследовала все состояние, пресловутые триста миллионов, о которых даже писали в газетах. В конце концов возникла романтическая легенда. Рассказывали, будто какой-то незнакомец, весь в черном, однажды вечером неожиданно появился в ее спальне, когда она собиралась лечь в постель. Она так и не поняла, через какую потайную дверь он мог войти; никто не знал, о чем этот человек говорил с нею, – по-видимому, он открыл ей гнусное происхождение трехсот миллионов и, может быть, потребовал с нее клятвы загладить совершенные злодеяния во избежание страшных несчастий. Затем этот человек исчез. И действительно, следуя повелению свыше или, скорее, повинуясь голосу совести, возмущенной происхождением этого богатства, все пять лет своего вдовства княгиня жила одним пламенным стремлением – отречься от всего и искупить совершенное зло. У этой женщины, не испытавшей радости любви и материнства, у которой все нежные чувства, в особенности неудовлетворенная любовь к детям, были подавлены, расцвела настоящая страсть к беднякам, к слабым, обездоленным и страждущим, к тем, кому она решила вернуть эти миллионы по-царски, целыми потоками благотворительности. И с тех пор ею овладела навязчивая идея, в голове ее гвоздем засела одна мысль: она стала смотреть на себя как на банкира, которому бедняки вверили триста миллионов с тем, чтобы она как можно лучше употребила эти деньги им на пользу; она теперь стала счетоводом, деловым человеком и, углубившись в цифры, жила среди целой армии секретарей, рабочих и архитекторов. Вне дома она устроила большую контору с двумя десятками служащих. У себя, в своих трех маленьких комнатах, она принимала только трех или четырех доверенных лиц, своих помощников; здесь она проводила целые дни, сидя за письменным столом, точно директор большого предприятия, скрываясь от докучливых посетителей среди наполнявших комнату бумаг. Ее мечтой было утешить всех, начиная от ребенка, страдающего от того, что он родился, до старика, который не может умереть без страданий. За эти пять лет, разбрасывая золото полными пригоршнями, она основала в Лавилете ясли святой Марии, с белыми колыбельками для самых маленьких, с голубыми кроватками для детей постарше, обширное и светлое помещение, которое уже посещали триста детей, сиротский дом святого Иосифа в Сен-Мандэ, где сто мальчиков и сто девочек получали воспитание и образование не хуже, чем дети в буржуазных семьях; наконец богадельню для престарелых в Шатильоне на пятьдесят мужчин и пятьдесят женщин и больницу на двести коек в одном из предместий – больницу Сен-Марсо, палаты которой только недавно открылись. Но любимым ее детищем, которое в настоящее время поглощало ее целиком, был Дом Трудолюбия, ее создание, которое должно было заменить исправительный дом; здесь триста детей – сто пятьдесят девочек и столько же мальчиков, подобранных на Парижской мостовой, среди разврата и преступлений, пользуясь заботливым уходом и обучаясь ремеслу, возрождались к новой жизни. Все эти учреждения, эти крупные пожертвования, безумная расточительность в благотворительных делах за пять лет уже поглотили около ста миллионов. Еще несколько лет таких затрат, и она будет разорена дотла, она не сможет даже платить за хлеб и молоко, которыми она теперь питается. Когда ее старая нянька Софи, нарушая свое постоянное безмолвие, резко выговаривала ей и пророчила смерть на соломе, она улыбалась той слабой улыбкой, которая только и появлялась теперь на ее бледных губах, – небесной улыбкой надежды. В связи с организацией Дома Трудолюбия Саккар и познакомился с княгиней Орвьедо: он являлся одним из владельцев участка земли, который она купила для приюта, – когда-то это был сад с чудесными деревьями, прилегавший к парку Нельи и тянувшийся вдоль бульвара Бино. Саккар очень понравился ей своей быстротой и решительностью в ведении дел, и когда у нее возникли затруднения с подрядчиками, она пригласила его еще раз. Он сам заинтересовался этими работами, увлеченный и очарованный грандиозным проектом, который она предлагала архитектору: два монументальных флигеля, один для мальчиков, другой для девочек, соединенные основным корпусом здания, в котором находились часовня, столовая, помещения для канцелярии и служащих; при каждом крыле был громадный двор, мастерские, всевозможные служебные помещения. Но что особенно увлекло его при его любви к широкому размаху и великолепию – это роскошь, громадные размеры здания, материалы, которые могли бы пережить века, стены, щедро отделанные мрамором, выложенная фаянсом кухня, где можно было зажарить быка, гигантские столовые с богатой дубовой облицовкой, спальни, залитые светом, украшенные веселой росписью; бельевая, ванная, лазарет, устроенные с необыкновенной изысканностью; и повсюду широкие проходы, лестницы, коридоры, прохладные летом, отапливаемые зимой; и весь дом, залитый солнцем, полный юного веселья, благоденствия, какое дает только большое богатство. Когда архитектор, встревоженный всем этим, по его мнению, излишним великолепием, говорил ей о расходах, княгиня сразу прерывала его: она когда-то жила в роскоши, пусть же и бедняки, создающие эту роскошь для богачей, насладятся ею в свою очередь. Ее навязчивой идеей была мечта – предупредить все желания несчастных, дать им удобные постели, обильный стол, как у счастливцев этого мира. Княгиня хотела, чтобы ее милостыня не ограничивалась коркой хлеба и скверной койкой, чтобы бедняки жили во дворце и чувствовали себя хозяевами, чтобы за свои страдания они насладились всеми радостями, которые достаются победителям в жизненной борьбе. Но при этих тратах, при составлении огромных смет ее невероятно обкрадывали, целая туча подрядчиков жила на ее счет; кроме того, она несла убытки вследствие плохого контроля; достояние бедняков расхищалось. Саккар открыл ей на это глаза и просил разрешения проверить счета, причем совершенно бескорыстно, из одного только удовольствия упорядочить эту безумную пляску миллионов, приводившую его в восторг. Никогда еще он не проявлял такой щепетильной честности. В этом большом и сложном деле он был самым активным, самым бескорыстным из сотрудников, он отдавал свое время, даже свои деньги, радуясь тому, что через его руки проходили такие огромные суммы. В Доме Трудолюбия знали только его одного, княгиня там никогда не бывала, так же как и в других созданных ею учреждениях, скрываясь в глубине своих трех маленьких комнат, словно невидимая добрая фея; его же там обожали, благословляли, на него изливалась вся та благодарность, которая ей, казалось, была в тягость. Очевидно, уже тогда у Саккара зародилось смутное намерение, которое, после того как он снял особняк Орвьедо, стало отчетливым и страстным стремлением. Почему бы ему не посвятить себя целиком управлению благотворительными делами княгини? В часы сомнений, когда, побежденный в денежных битвах, он не знал, что предпринять, ему казалось, что это могло стать для него, новой жизнью, неожиданным апофеозом: сделаться распорядителем этой царской благотворительности, направлять ее золотой поток, изливающийся на Париж. У княгини оставалось еще двести миллионов – какие учреждения можно еще создать, какой город чудес воздвигнуть! Не говоря уже о том, что у него эти миллионы будут приносить плоды, он удвоит их, утроит, сумеет использовать так, что извлечет из них целый мир. Со свойственной ему страстностью он мысленно все больше расширял поле своей деятельности, он теперь жил только одной опьяняющей мыслью – раздавать эти миллионы в виде бесконечных благодеяний, затопить ими осчастливленную Францию; и он умилялся, так как был совершенно бескорыстен – никогда еще он не прикарманил ни одного су. В своем необузданном воображении он создавал грандиозную идиллию, не чувствуя никаких угрызений совести: у него не было никакого желания искупить свои прежние разбойничьи аферы, – тем более что его новый план мог осуществить мечту всей его жизни, завоевание Парижа. Быть королем благотворительности, богом, которому поклонялись бы толпы всех этих бедняков, стать единственным в своем роде, завоевать популярность, – это превосходило все его честолюбивые желания. Каких только чудес не осуществит он, если употребит на добрые дела свои организаторские способности, свою хитрость, упорство, полную свободу от предрассудков! И у него будет непреодолимая сила, побеждающая в сражениях, деньги, целые груды денег, деньги, которые часто причиняют столько зла, но могут сделать много добра, если в благотворении видеть свою гордость и счастье!
Затем, еще более расширяя свой план, Саккар задал себе вопрос: почему бы ему не жениться на княгине Орвьедо? Это определило бы их отношения, не оставив места злым толкам. В течение целого месяца он искусно маневрировал, излагал ей великолепные проекты, решил, что стал для нее необходимым, и однажды, спокойным тоном, не задумываясь, сделал ей предложение и рассказал о своих грандиозных замыслах. Он предлагал ей настоящий союз, брался ликвидировать состояние, награбленное князем, обязывался возвратить его бедным в десятикратном размере. Княгиня, в своем вечном черном платье, с кружевной косынкой на голове, слушала его внимательно, но никакого волнения не отразилось на ее пожелтевшем лице. На нее произвели большое впечатление те преимущества, которые мог представить такой союз, но к другим соображениям она отнеслась равнодушно. И, отложив свой ответ до следующего дня, она в конце концов отказала, – должно быть, она подумала о том, что уже не будет полновластной хозяйкой своих благодеяний, а ей хотелось, пусть даже безрассудно, распоряжаться своим богатством, как неограниченная властительница. Все же она сказала ему, что будет счастлива сохранить его в качестве советника, что высоко ценит его сотрудничество, и просила по-прежнему заниматься Домом Трудолюбия, фактическим директором которого он был.
В течение целой недели Саккар испытывал острое чувство огорчения, словно не сбылась самая дорогая его мечта, – не от сознания того, что теперь он снова погрузится в бездну разбойничьих афер: ведь и у самого гнусного забулдыги навертываются слезы на глаза при звуках сентиментального романса, – так и мечта о колоссальной идиллии, построенной с помощью миллионов, тронула душу этого старого пирата. Это было еще одно падение, и очень тяжелое, его словно свергли с престола. Деньги ему всегда были нужны не только для того, чтобы удовлетворять свои вожделения, но и для того, чтобы вести полную великолепия княжескую жизнь; и никогда еще ему не удавалось достигнуть этого.
Он приходил в бешенство, видя, как неудачи уносили одну за другой его надежды, и когда спокойный и ясный отказ княгини разрушил его последний план, он снова почувствовал неукротимое желание бороться. Бороться, победить в жестокой схватке биржевой игры, пожрать других, чтобы они не пожрали тебя самого, – вот что, кроме жажды роскоши и наслаждений, стало главной и единственной причиной его страстного стремления к деятельности. Он не хотел копить деньги, он жил для других радостей, любил борьбу огромных цифр, целых состояний, которые бросались в бой, как армии; любил столкновения враждебных друг другу миллионов, с их поражениями и победами, которые его опьяняли. И опять он почувствовал прилив ненависти к Гундерману, бешеную жажду мести. Одолеть Гундермана – это неисполнимое желание терзало его всякий раз, как он сам бывал побежден, лежал на обеих лопатках. Он отлично понимал всю безнадежность такого предприятия, но разве нельзя было хотя бы чуть-чуть потеснить Гундермана, отвоевать себе место рядом с ним, заставить его пойти на уступки, как делают монархи соседних стран, которые обладают равным могуществом и обращаются друг к другу, как братья? И тогда его снова потянуло на биржу, в голове зароились всевозможные противоречивые планы, в безумном волнении он колебался между ними, не зная, на что решиться, пока, наконец, последняя грандиозная идея не затмила другие и не завладела всем его существом.
С тех пор как Саккар поселился в особняке Орвьедо, он иногда встречал сестру инженера Гамлена, занимавшую маленькую квартирку на третьем этаже, женщину восхитительно стройную, – госпожу Каролину, как все ее звали запросто. При первой встрече его особенно поразили ее великолепные, совсем седые волосы, царственная корона из седин, которая производила странное впечатление в сочетании с молодым еще лицом. Ей недавно исполнилось тридцать шесть лет, но она поседела уже в двадцатипятилетнем возрасте. Лицо ее, словно обрамленное горностаем, казалось совсем молодым благодаря черным густым бровям, которые придавали ему особую оригинальность. Она никогда не была красива: нос и подбородок у нее были крупноваты, рот большой, но полные губы выражали бесконечную доброту. А это белое руно, эта разлетающаяся белизна тонких шелковистых волос смягчали ее несколько суровые черты, придавали ей улыбающееся очарование бабушки в сочетании со свежестью и бодростью прекрасной любящей женщины. Высокая, плотная, она держалась свободно и с большим благородством.
Каждый раз при встрече Саккар, который был меньше ее, провожал ее глазами, заинтересованный, смутно завидуя ее высокому росту и крепкому сложению. И понемногу он узнал от окружающих всю историю Гамленов. Отец Каролины и Жоржа, врач в Монпелье, замечательный ученый и в то же время ревностный католик, умер, не оставив состояния. Дочери его в то время было восемнадцать лет, сыну – девятнадцать; молодой человек только что поступил в Политехническую школу, и сестра поехала вместе с ним в Париж и стала домашней учительницей. В течение двух лет, пока он учился, она потихоньку клала ему в карман пятифранковые монеты, заботилась о том, чтобы у него были карманные деньги; потом, когда он окончил не из первых и долго не мог найти работу, она опять поддерживала его, пока он не устроился. Брат и сестра обожали друг друга, мечтали никогда не расставаться. Но Каролине неожиданно представилась возможность выйти замуж, – приветливость и живой ум этой девушки покорили одного миллионера, владельца пивоваренных заводов, которого она встретила в доме, где служила. Жорж настоял, чтобы она приняла предложение, но потом жестоко раскаялся в этом, потому что через несколько лет после замужества Каролине пришлось потребовать развода, – так как муж ее пил и в припадках нелепой ревности бросался на нее с ножом. Ей было тогда двадцать шесть лет, она снова осталась без средств к существованию, твердо решив не требовать денег от человека, от которого ушла. Но брат ее после многих попыток нашел, наконец, работу себе по душе: ему представилась возможность уехать в Египет с комиссией по предварительным изысканиям в связи со строительством Суэцкого канала, и он взял с собой сестру, которая, мужественно решив поселиться в Александрии, снова стала давать уроки, в то время как он разъезжал по стране. Так они прожили в Египте до 1859 года, видели начало работ на побережье Порт-Саида: там была тогда только жиденькая, затерянная в песках партия из ста пятидесяти землекопов с несколькими инженерами во главе. Затем Гамлен был послан в Сирию за продовольствием и остался там, поссорившись со своим начальством. Он выписал Каролину в Бейрут, где ее уже ждали новые ученики, а сам принял участие в большом деле, предпринятом одной французской компанией, – прокладке проезжей дороги из Бейрута в Дамаск, первого и единственного пути, ведущего через ущелья Ливана; и они прожили здесь еще три года, пока дорога не была проложена, – он производил изыскания в горах, потратил два месяца на путешествие в Константинополь через Таврский хребет, а она сопровождала его, когда это было возможно, разделяя все его мечты о пробуждении этой древней земли, уснувшей под пеплом погибших цивилизаций. Портфель его был набит различными проектами и планами, и, для того чтобы воплотить в жизнь все эти предприятия, учредить общества, найти капиталы, он непременно должен был вернуться во Францию.
Прожив на Востоке девять лет, они возвратились на родину, из любопытства проехав через Египет, где работы по прорытию Суэцкого канала привели их в восторг: за четыре года в прибрежных песках Порт-Саида вырос целый город, там копошились толпы народа, там работало множество людей-муравьев, изменяя лицо земли. Но в Париже у Гамлена дело шло из рук вон плохо: вот уже больше года он тщетно хлопотал о реализации привезенных им проектов и никому не мог внушить свою веру в успех, так как был слишком скромен и не красноречив; живя в небольшом помещении из пяти комнат в особняке Орвьедо, он был еще дальше от успеха, чем в те времена, когда разъезжал по горам и равнинам Азии. Их сбережения быстро таяли, брату и сестре грозила нужда.
Печаль, все более омрачавшая жизнерадостность Каролины, по мере того как брат ее постепенно падал духом, как раз и возбудила участие Саккара. В этой семье, состоявшей из брата и сестры, она как бы играла роль мужчины. Жорж, внешне очень похожий на нее, хотя и более хрупкий, обладал редкой работоспособностью, но он с головой уходил в свои занятия и не любил, чтобы его отвлекали. Он не хотел жениться и не видел в том необходимости, так как обожал сестру, и этого ему было достаточно. Вероятно, у него бывали какие-нибудь кратковременные связи, но о них никто ничего не знал. И этот воспитанник Политехнической школы, обладавший широким кругозором, со страстью отдававшийся всему, что предпринимал, иногда бывал так наивен, что казался недалеким. Воспитанный в самых узких догмах католицизма, он с детства был верен этой религии и в простоте душевной исполнял все ее обряды, между тем как его сестра, благодаря своей огромной начитанности и всестороннему образованию, приобретенному в те долгие часы, когда брат погружался в свои технические исследования, совсем отошла от религии. Она говорила на четырех языках, читала экономистов, философов, одно время страстно увлекалась социалистическими и эволюционными теориями, но теперь успокоилась, и путешествия, долгая жизнь в странах восточной культуры развили в ней большую терпимость, мудрую уравновешенность. Сама она не верила, но относилась с уважением к религиозным взглядам брата. Между ними однажды произошло объяснение, и они никогда больше не возвращались к этому вопросу. При всей своей простоте и добродушии она была очень умна и обладала большой жизненной силой; жестокости судьбы она противопоставляла свою жизнерадостную бодрость и часто говорила, что единственным горем, до сих пор терзающим ее, было то, что она не имела ребенка.
Саккар как-то оказал Гамлену услугу, доставив ему небольшую работу, – одному товариществу понадобился инженер, чтобы определить коэффициент полезного действия новой машины. Таким образом ему удалось поближе познакомиться с братом и сестрой, и он стал часто навещать их, чтобы провести часок у них в гостиной, которую они превратили в рабочий кабинет. Эта единственная большая комната в квартире была совершенно пустой, в ней стояли только длинный чертежный стол, второй стол поменьше, заваленный бумагами, и полдюжины стульев. На камине стопками лежали книги. Но эта пустота оживлялась импровизированными украшениями: на стенах кнопками была приколота целая серия чертежей и ряд светлых акварелей. Это были проекты из портфеля Гамлена, наброски, сделанные им в Сирии, – все его надежды на будущее. Акварели, написанные Каролиной с очень оригинальным чувством колорита, хотя без всяких претензий, изображали местные пейзажи, типы, костюмы, которые она наблюдала и зарисовывала, сопровождая своего брата. Два широких окна, выходящих в сад дома Бовилье, бросали яркий свет на эту галерею рисунков, вызывающих в воображении иную жизнь, мысль о превращающейся в прах древней цивилизации, которую чертежи, с их четкими геометрическими линиями, как будто стремились поднять на ноги, поддержать прочными лесами современной науки. После того как Саккар с кипучей энергией, делавшей его таким привлекательным, пришел им на помощь, он стал особенно часто рассматривать эти проекты и акварели, заинтересовавшись ими и беспрестанно допытываясь все новых объяснений. В его голове уже зарождались грандиозные планы.
Однажды утром, когда он зашел к ним, Каролина сидела одна у маленького столика, за которым она обычно работала. Она была бесконечно грустна, руки ее безвольно лежали на груде бумаг.
– Как же не огорчаться? Наши дела решительно принимают дурной оборот… Я, впрочем, не падаю духом. Но скоро у нас ничего не останется, и тяжелее всего уныние, в которое неудачи приводят брата. Ведь он бодр и силен только когда работает… Я думала уж снова взяться за уроки, чтобы хоть помочь ему. Искала место, ни ничего не нашла… Не могу же я стать прислугой!
Никогда еще Саккар не видел ее такой расстроенной и подавленной.
– Ну вот еще что придумали! – воскликнул он.
Она покачала головой; сейчас она с горечью смотрела на жизнь, которую обычно принимала с такой бодростью, даже когда ей приходилось нелегко. В эту минуту вернулся Гамлен с известием о новой неудаче; крупные слезы медленно выступили у нее на глазах, она замолчала, сидя за столом, сжав кулаки и устремив взгляд в пространство.
– И подумать только, – вырвалось у Гамлена, – что там можно было бы нажить миллионы, если бы кто-нибудь согласился помочь мне!
Саккар остановился перед чертежом какой-то изящной постройки, стоящей среди обширных складов.
– А это что такое? – спросил он.
– Это я забавлялся, – объяснил инженер. – Это проект резиденции, там, в Бейруте, для директора компании, о которой я мечтал; знаете, Всеобщей компании объединенного пароходства.
Он воодушевился, приводил все новые подробности. Во время своего пребывания на Востоке он убедился в том, как плохо там организован транспорт. Несколько обществ в Марселе, убивая друг друга конкуренцией, не имеют возможности приобрести достаточное количество комфортабельных пароходов; первой мыслью Гамлена, лежащей в основе всех задуманных им планов, было объединить эти общества в синдикат, создать одну большую компанию с миллионным капиталом, чтобы эксплуатировать все Средиземное море и обеспечить себе господство на нем, установив рейсы между военными портами Африки, Испании, Италии, Греции, Египта, Азии, до самых отдаленных берегов Черного моря. Такой проект мог зародиться только в уме организатора с большим чутьем и глубокими патриотическими чувствами. Осуществить его – значило завоевать Восток и передать его Франции, не говоря уже о том, что в результате должны были окрепнуть связи с Сирией, где открывалось широкое поле деятельности.
– Синдикаты, – прошептал Саккар, – им, конечно, принадлежит будущее… Это такая мощная форма объединения! Три или четыре мелких предприятия, которые едва прозябают каждое в отдельности, приобретают, объединившись, непреодолимую жизнеспособность и начинают процветать… Да, будущее принадлежит крупным капиталам, централизованным усилиям масс. Вся промышленность, вся торговля в конце концов превратятся в один огромный универсальный магазин, где можно будет получить все.
Теперь он остановился перед акварелью, изображавшей дикий пейзаж, бесплодное ущелье, заваленное обломками гигантских, поросших кустарником скал.
– Ого, – сказал он, – вот где край света. Вряд ли здесь толкаются прохожие, в этом закоулке.