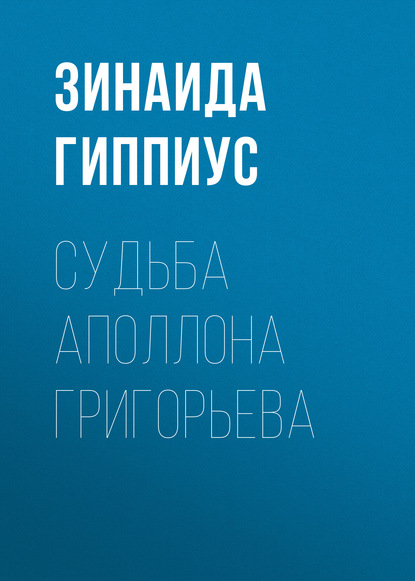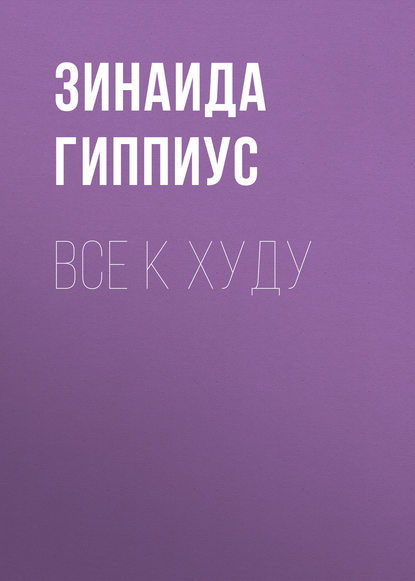 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Зинаида Николаевна Гиппиус Все к худу
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Зинаида Гиппиус
Все к худу
Дементьев убил свою жену.
Год производилось следствие, потом его судили и приговорили, – ввиду смягчающих обстоятельств и ввиду того, что он уже одиннадцать месяцев просидел в предварительном заключении, – только к церковному покаянию в дальнем монастыре.
Срок покаяния пришел к концу, а Дементьев и не думал уезжать из монастыря, потому что ему решительно некуда было уезжать. В монастыре он вел себя тихо и молчаливо, и только последнее время стал иногда разговаривать с казначеем, добродушным, статным и чернокудрым о. Мефодием. Весенней порой, перед сумерками, сходились они на монастырском кладбище и беседовали. Сидели на скамеечке под сиренями, у могилы купчихи Бронзовой. Памятник хороший, высокий, наверху урна, под урной – стихи. Монастырь был хоть и далекий от столиц, но не захолустный и не очень бедный; около – уездный город.
Как-то раз сошлись они, Дементьев и о. Мефодий, на вечерней, весенней заре и повели беседу. О. Мефодию давно хотелось допросить кающегося, как с ним приключился грех, но тот доселе все отмалчивался: беседовали они больше отвлеченно.
– Благодать-то какая, Николай Павлыч! Дружная нынче весна стала, – заговорил монах, шумно дыша и глядя вверх, на желто-зеленое небо, свежее и чистое, как будто только что вымытое. – Листочки какие уже большие. А теплынь-то! Небось в вашем Петербурге еще снег полеживает, либо грязища холодная. Не ездить бы тебе никуда, Николай Павлыч, остался бы с нами. Чего еще? Здесь тишина, а у тебя душа потревоженная…
– Я и не поеду никуда, должно быть, – сказал Дементьев и усмехнулся.
Нельзя было бы угадать, сколько ему лет: может быть, мало, может быть, много. Сероватое, худое лицо, серовато-белокурая, редкая, кустиками, бородка, серовато-бледные, запавшие глаза; на щеках, когда он усмехался, – длинные складки.
О. Мефодий обрадовался ответу.
– Не поедешь? Вот бы хорошо! Постригся бы с Божией помощью, и прожил бы свое время в тишине.
– Нет, я постригаться не стану, о. Мефодий, – сказал Дементьев. – А так… надоела мне вся эта канитель. Уходить некуда… не к чему… и жить здесь – тоже не к чему. Тебе я, о. Мефодий, пожалуй, скажу, потому что мне все равно: я повеситься задумал.
О. Мефодий от неожиданности даже затрясся весь, открыл рот и замахал руками.
– Что ты? Николай Павлыч? Христос с тобой! Каялся-каялся, откаялся – а теперь в новое грешное помышление впадаешь? В монастырь, да вешаться? Подумал бы! И с чего?
– Ну я из монастыря в рощу уйду, к речке. Не кричи. Ты добрый человек; добрый человек, слыша про это, не должен кричать; а если он еще и умный – так он сочувствует, понимает.
– Грех твой, что ли, тебя замучил? – спросил о. Мефодий уже тише.
– Какой грех! Я и не каялся никогда, что убил Марью. Вышло так – и отлично.
О. Мефодий хотел было ужаснуться и начать объяснять собеседнику его заблуждение, но любопытство превозмогло все, и он спросил:
– Да как оно случилось-то? Приревновал ты ее, что ли? Ах ты, Господи Иисусе Христе!
– Я бы тебе рассказал, о. Мефодий, да ведь ты не поймешь. Ты, вон, во-первых, все о грехе да покаянии…
О. Мефодий немного обиделся.
– Ты, Николай Павлович, мою душу не знаешь. Думаешь, меня сомнения не посещают? Всего бывало. Молчишь только, конечно. Теперь оно реже, а как в молодости-то начнутся мысли, как начнутся мысли… Я и нынче от многого не отказываюсь.
– Да не оттого… Так. Какой бы ты ни был, хоть семи пядей во лбу… А лишнее это. Все равно, ведь, никакого сообщения между людьми нету.
– Это верно, нету, – оживившись, сказал о. Мефодий. – Я и сам думал, еще когда в миру жил, лавка у отца в городе была. Никакого сообщения. Ты человеку свое толкуешь, – а у него свое на уме, что – неведомо. И знаешь про это, а все силишься, толкуешь. Вот за то и хорошо в монастыре. Какое у нас здесь сообщение? Самое малое. С братьями о самом простом покалякаешь, о. настоятелю дела доложишь, книги покажешь – вот и сообщение. Зато у нас с Богом сообщение в молитве. Каждый по-своему, про свое Господу говорит, уже Он, Вседержитель, разберет. А между человеками нет издавна сообщения. Мне думалось, дьявол сетки везде натянул.
– Ну вот видишь, – сказал Дементьев. – Сам говоришь – нет, зачем же меня просишь про жену и про все рассказывать? Так, из любопытства просишь. Да ничего, мне уже все равно.
– Некое малое сообщение существует, – проговорил, смутившись, о. Мефодий. – Вот, например, я тебя полюбил, – а ты какое слово сказал мне: повешусь. Я должен постигнуть, зачем ты его сказал.
– Да как раз этого-то и не постигнешь. Тут уж каждый на свою совесть решает. А дело мое короткое, скажу – и понимай как хочешь. Жена моя, Марья, была женщина большая, грязная, крикунья. Жили восемь лет вместе. И так она мне надоела, так надоела… этого рассказать нельзя. Женился я на ней студентом, в жильцах жил у ее матери. Совсем молоденький был, и монах – каких у вас в обители ни одного нет. А эта «Машечка» стала ко мне по вечерам в комнату ходить и целоваться. Она куда старше меня была, но еще ничего, недурна как будто, – да и что я понимал? Ну, дальше больше, она о том, что мы женимся, с полной уверенностью говорила, у меня же разные в голове благородства, ну и женились, очень скоро. Слушаешь, о. Мефодий?
О. Мефодий молча, со значительным видом, кивнул головой.
– Моя мать жила в провинции – умерла. Марьина тоже умерла невдолге. Денег никаких не было. А у Марьи каждый год дети, да гадкие такие, больные, все умирали, а она радовалась. Университет я сразу же бросил, поступил на железную дорогу, сорок рублей получали, да квартиру – две комнаты и кухня. Изо дня в день и пошло. Уйду с утра, работа глупая, каторжная, – приду – она орет, ругается, вонь… Чем ни попадя в меня швыряет, просто бешеная баба, такая злобная. Лицо даже масленое от злобы. И я стал понемногу ругаться. Прачечную у себя завела и язвит «Вот, мол, интеллигентные люди как жену держат! Уж отольются тебе мои слезки, студент на патент!» А потом грязные слова пойдут.
О. Мефодий покачал головой.
– Эк она, бабья-то злоба! За то и хорошо в монастыре, что нет ее тут, бабы!
Дементьев продолжал.
– Да что расписывать. Просто у меня в голове началась какая-то тупость, понемножку сначала давило, потом все больше и больше. Надоела она мне, так надоела!
Даже теперь, когда Марьи уже не было в живых, голос Дементьева сделался резким и тоскливым.
– Один раз пришел домой; через кухню – к себе. Она за мной, с мокрым полотенцем и утюгом. Утюг на стол бросила, сама ко мне, орет, деньги какие-то спрашивает. Я и не разобрал. Кричу: убирайся! А она меня мокрым полотенцем по лицу и утюг швырнула. Я этот утюг, – горячий был, – поднял да в нее назад. И так ловко попал, прямо в висок, она упала, не мучилась нисколько.
– Ай-ай-ай! Господи Боже мой! Экий ты, Николай Павлович! Да что это? тебе бы давно ее, ведьму (прости Господи!), бросить, и дело с концом.
– Бросишь! Не шла она. Всюду, говорит, за тобой, по закону. Не шла она никуда.
– Да! Дело! Можно сказать!
– Ну, а прислуга видела, что я не нарочно, и что она, Марья, первая в меня утюгом шваркнула. Оттого меня и оправдали. Я-то сам не оправдывался. Говорил и на суде: «Убил нечаянно, не думая, – но не жалею; почему – потому что она мне очень уж надоела».
– Экий ты незадачный, Николай Павлыч, – нерешительным голосом произнес о. Мефодий. – Баба злая тебя сгубила. Кабы хорошая жена попалась, жил бы теперь поживал, денежки наживал, служил бы там, что ли…
Дементьев усмехнулся.
– А я вот рассудил, что все то же было бы. Тут-то вся и загвоздка, что все то же. Ну, оказалась бы жена получше, я бы с ней не восемь, а восемнадцать лет прожил. Думаешь, с другой женой и не ссорились бы? И не распускала бы она себя? И денег бы от меня не хотела? И дети бы не умирали? Ну было бы место получше, ну денег больше, – так все же не доставало бы. Все то же было бы, только длиннее, тягучее, и все бы шло хуже да хуже, потому что сил бы меньше становилось да болезни бы пришли, а за ними смерть, – своим порядком. Теперь, как повешусь, меня под кусточком схоронят, а то бы хорошая жена памятник, вроде вот Бронзовского, заказала. Так разве не все равно?
О. Мефодий молчал:
– Ты этого, о. Мефодий, не знаешь, а я тебе скажу, что насмотрелся я на разные жизни, и все-то то же самое. Всякая жизнь – к худу идет. Бывают там радости по дороге, а направление одно у всех – к худу. Общее-то направление. Сначала, в молодости, выдумаешь себе и то и се, не понимаешь, что к худу, а как начнется, – да поймешь, тогда уж ау, не поскачешь. Ты говоришь «незадачный». Ну, а Наполеон – слыхал про него? Кажется, задачный был. А и у него все, даже хорошее, к худу шло: и пришло худое, и так и докатилось до последнего худа.
– Да ведь жизнь-то длинна, – неуверенно сказал о. Мефодий. – Вот теперь избавлен ты, Николай Павлович, от бабы этой, теперь и живи с Богом. Начинай, коли грех-то не давит тебя.
– Как это начинать? Службу ехать искать? Жену новую высматривать? Чтоб опять все вроде того же пошло и к тому же пришло? Нет уж, о. Мефодий. Уж тянулся изо дня в день неизвестно для чего, а уж больше не могу. Я за восемь лет всю жизнь прожил, которую другие за пятьдесят проживают. Ту же самую, только у них жиже, а у меня гуще, ну не так надолго и хватило; понял я ее, жизнь-то матушку. Ты, о. Мефодий, извини, тебе мирская жизнь далека, так ты и не рассуждай.
– Да что далека? К худу-то она, это правда твоя, к худу всякая. Если рассудить, так уж где ж к хорошему? Зато в монастыре-то и благо нам, что мы уж и не мечтаем, а сразу приготовляемся к приятию. А вот что скажи мне, Николай Павлыч. Ведь, может, ты сам не знаешь, а может, наслана на тебя теперь эта духота от того, что ты все-таки человека убил? Неужели никогда не каялся?
– Что велели – исполнял. А душой – не каялся. Просто вот и не думаю, что убил. Точно не убил.
О. Мефодий задумчиво поглядел на темнеющее небо и кашлянул.
– Так-таки и не было душевного раскаяния? – спросил он строго.
– Говорю тебе, точно и не убивал.
О. Мефодий наклонился к собеседнику и проговорил таинственно:
– Значит, друг любезный, ты никого и не убивал. Дементьев удивился.
– А Марья?
– А Марьи – и не было никогда. Вот послушай, какие меня мысли однажды посетили. На духу не говорил, а тебе скажу. Есть притча в Евангелии, что посеял сеятель семена Добрые, а враг пришел ночью и посеял между ними плевелы. И взошли и те, и другие, а сеятель не велел вырывать плевелы, а чтобы росли пока вместе. Плевелы-то – врага создание, так? А пшеница – Божие. Вот и смекай. Все вместе растем. Бог-то создал человека с душой, – неужели враг тоже душу может создать? Он для виду только, для искушения создал. Как будто люди ходят – ан нет, плевелы, вражье созданье, марево одно, пар, для Божьих детей искушенье. Они и не чувствуют себя, им все равно, лишь бы искусить да пропасть. Вот и Марья твоя такая была. Не Богом созданная. Искусила тебя и пропала.
Дементьев слушал-слушал внимательно, потом усмехнулся.
– Видишь ты, что надумал! Да эдак…
– Эдак, скажешь, мы с кем что хотим, то и делаем? – оживленно перебил его о. Мефодий. – То-то, что нет! То-то, что не смеем мы этого знать! Не дано – и не смеем! Я, брат, понимаю, что и тут, в мысли этой, искушение! Я и таю ее, тебе только сказал, сам не знаю зачем. Большое искушение! Теперь уж редко когда вспомню, – а прежде все, бывало, смотрю на народ, в церкви или где, и думаю: который, мол, из вас настоящий, от Бога, а который вражье марево? Очень искушался.
– Да, – сказал Дементьев задумчиво. – Однако, пожалуй, лучше и не того… И так духота.
– А так-то меньше духоты. Ей-Богу! Ты не смотри, что я монах захолустный, я очень рассуждаю. Например, был у нас такой случай в городе, – давно уж – родила девка ребенка и кинула свиньям живого. Сама признавалась, слышала, говорит, как косточки хрустели. Что ж, по-твоему, ребенок этот настоящий был? Девка виновата, ну а он-то, неповинный, за что на зубах свиных хрустел? Страдание-то его зачем? Говорят: как это Бог терпит? А тут и терпеть нечего, страдания-то и не было, а ребенок этот, по-моему, марево бесчувственное, для девкиного искушения: бросишь или не бросишь? Бросила, враг-то и рад, что заглушил своей плевелой Божью пшеницу. С девки-то спросится, как за настоящего… – И с тебя за Марью спросится! – вдруг прибавил он неожиданно и горячо. – Она, может, и не настоящая была, однако ты этого знать не смеешь. Раскаянья у тебя нет, а вот донимает же тебя тупость да духота. Сердце-то у тебя уж жизни не чует. К своему худу подкатилось раньше времени.
– Чудной ты, о. Мефодий! – сказал Дементьев. – Еще монах, а какие у тебя мысли. Да мне теперь все равно. Сам ты уразумел, что мне уж не жизнь. Чего ж испугался давеча, когда я сказал…
– Что удавиться-то хочешь? Это тебе опять искушение-.
– Ну вот, мне! Это, может, тебе искушение. Ты уразумел – ну и не трогай, оставь. Я, может, и сам не настоящий, а? Может, дьявольское марево? Что скажешь?
И Дементьев усмехнулся.
О. Мефодий весь съежился и странно поглядел на него. Совсем стало темно, и лицо Дементьева едва белело под сиренями. Оба замолкли и долго молчали. О. Мефодию было не по себе.
Помолчав, он зевнул притворно и сказал:
– Пора, что ли, в домы. Свежо становится. Дементьев не трогался с места и молчал. Потом сказал негромко:
– Видишь, отец. И поговорили мы с тобою, а настоящего сообщения между нами не произошло. Каждый о своем.
– Нет, что ж… Конечно, и тут он, дьявол, много виноват.
– Да… дьявол… – Дементьев опять помолчал. – Спрошу я тебя, отец: ты в Бога веруешь?
– Что это, Господи! У монаха спрашиваешь! В кого же верить еще! Верую и исповедую.
– Веруешь. Ну и что ж?
– Ну и ничего.
– Вот видишь – ничего. Вот она где беда, почему у нас с тобой сообщения нет. Вы веруете – и ничего, жизнь себе ползет к худу, вы только ушли от нее, мимо нее к своему худу припали. А уж если б мы верили, вот я бы, скажем, верил – уж у меня бы не «ничего»! Уж я бы не допустил, чтоб оно все к худу шло! Уж это бы у меня переменилось?
– Чего переменилось-то? Сам говорил, – смерть-то твоя ведь все равно пришла бы?
– Смерть? Хорошо рассуждаешь, отец! Значит, не веришь, что, как там у вас, «смертию смерть поправ»?.. И ты не веришь? Вот оно, «верю – и ничего»!
О. Мефодий смутился, кашлянул.
– Ну уж ты… Это я ведь твои же слова… А мы верим. Недостойны мы, конечно… Оттого и бывает некоторое смятение ума, и страхи… Мы верим. Как же не верить?
Опять они помолчали.
– Вот что, о. Мефодий. Попрошу я тебя… Если случится… Если кончу я где жизнь… Постой, постой, довольно ведь мы толковали… Так вот, если я… Ты уж помолись за меня, как там знаешь. Помолишься?
О. Мефодий испуганно взглянул на собеседника и робко проговорил:
– Что ж… Оно, конечно, не полагается…
– Не полагается? Не может быть! Ну спроси, благословись! Настой, чтоб позволили! Как же вам не молиться? Что ж это?
– И многие находят несправедливо. За кого ж и молиться? Я благословлюсь у о. настоятеля… Бывали примеры… – Да что ты, право, Николай Павлыч! Грех-то, подумай! Ведь отвечать надо будет!
– Ну, оставь, – устало сказал Дементьев. – Уж перетолковали. Ночь поздняя. Пойдем покуда.
Они вместе двинулись по темному кладбищу. Воздух был нежный, душистый: пахло весенней землей, тополевыми почками и еще какой-то грустной и томной сладостью, – так часто пахнет на кладбищах. Бледные большие звезды задрожали вверху. Дементьев шел, опустив голову. Может быть, он думал, что и весна – к худу. Ведь кончится ее рассвет – осенью.
Когда друзья расставались, Дементьев еще раз сказал о. Мефодию:
– Ты прости, коли я напугал тебя. О чем просил – не забудь. Не думай, что я, может, чертово марево; я, может, и настоящий…
Не раз еще сходились они под сиренями, но разговоры не налаживались. А через неделю Дементьев, точно, повесился в дальней роще, у реки. Объяснили это тем, что он не имел средств к существованию и страдал ипохондрией. О. Мефодий со слезами просил о. настоятеля благословить его молиться за скончавшегося. О. настоятель был в затруднении и обещал снестись с епархиальным преосвященным. Неизвестно, чем это кончилось.