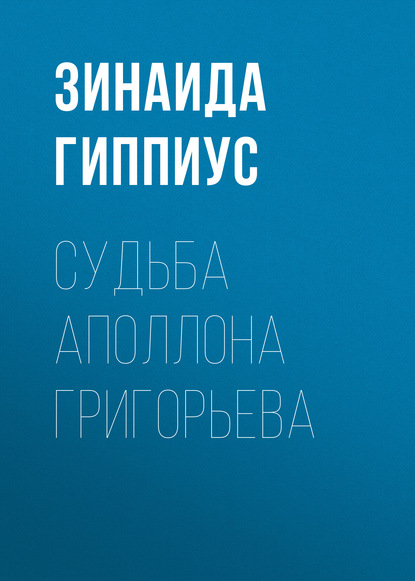Полная версия:
Зинаида Николаевна Гиппиус О «Я» и «Что-то»
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Зинаида Гиппиус
О «Я» и «Что-то»
Один из вечных, так называемых «проклятых» вопросов – разумеется, вопрос о личности. О личности и коллективе, о их взаимоотношении. Стремясь к таинственному синтезу, они постоянно сближаются, но сближение оканчивается ничем: или коллектив съедает личность и остается один, или, наоборот, личность уничтожает коллектив и тоже остается одна. Так мы вечно и хромаем на которую-нибудь ногу.
«Проклятость» проклятых вопросов в том, что от них никуда не уйдешь. Сидим ли мы в кабинет и глубокомысленно, упорно и бесплодно решаем их, смиренно ли живем день за днем, ни о чем не думая, кроме насущных дел и делишек, – вопросы тут, как тут. Солнце отражается в море, но не обходит и солдатскую пуговицу. Достоевский, газетный репортер, устроитель своей семьи, деревенской молочной кооперации или балканских дел в Лондоне – все они живут в мельчайших брызгах «проклятых вопросов», непрерывно их как-то решают, – ибо вся жизнь ими пропитана.
Наблюдая явления более общие, в любое время можно с ясностью заметить, куда качнулся маятник интересующего нас вопроса: в сторону личности или в сторону коллектива. Возьмем хотя бы только литературу (она достаточно отражает жизнь), хотя бы только русскую, хотя бы лишь последних десятилетий. Все оттенки и степени уклона именно к личности, – все формы индивидуализма, вся лестница самоутверждения – до той последней ступени, на которой единая личность уже съедает себя сама. Пусть мне не говорят, что искусство (раз я беру искусство) непременно и только индивидуально. Это старое возражение. Само по себе искусство лишь чаша – и разных цветов вино в нее наливают. «Чистое искусство», «искусство для искусства» – уже определение, и тут уже есть, действительно, склон к индивидуализму.
Наши «декаденты» были первыми сознательно явными утвердителями личности, сильно качнули маятник в одну сторону – и, по-видимому, были правы. Литература, опять верная своему долгу, верно отобразила уклон жизни. Тем прекраснее литература, чем чище ее зеркало.
Когда-то, давно, я отметил у декадентов этот резкий уклон к индивидуализму, к утверждению личности, как примата. Если же изобразить схематически ступени, которые привели нас от декадентства 90-х годов к характерному писателю-описателю последних дней, то будет приблизительно так: «Есть Я». – «Есть, главным образом, Я». – «Есть только Я». И, наконец (это уж последнее, не ступенька, а срыв, самосъедание личности), есть «Что-то».
Для конкретности можно взять, кого угодно, из наших современных художественных писателей. Они, быть может, и не проходили последовательных стадий индивидуализма, большинство прямо, с невинностью, попало на те последние ступеньки, где в наши дни находится литература. «Я» – уже едва чувствительно. Есть ли, нет ли – неизвестно, да и мало интересно. Верно, есть немножко: есть мои глаза, которыми вижу существующее «Что-то», и рука, которой описываю это видимое. И хорошо, отчетливо вижу, и хорошо, красиво описываю.
Таковы наши писатели; они именно описатели. Возьмем кого-нибудь из ряда и остановимся на нем. Возьмем Пришвина.
Вероятно, он сам никогда и не говорил себе: «есть Я, есть только Я». Он сразу стал на то место, где «видят Что-то». Его самого, его «Я», его мысли, его воли – вы не заметите ни в одной строчке прекрасных описаний, да и между строк не прочтете ничего, потому что ничего этого нет. Бьется какое-то громадное чувство, но уже не человечье, не сердечное, а… просто не знаю, как и выразить, – глазное и кожное.
…Вот, вот… Летит сова… Гудит лес… Собака воет… Над Библией клонится мужик крепкий, мужик старый… Вздыхает Русь болотинами своими…
Хорошо? Конечно, хорошо, весьма хорошо описано, а хорошо ли это по существу, дурно ли, и чего Пришвин хочет, где он сам, – я не знаю, и он не знает.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.