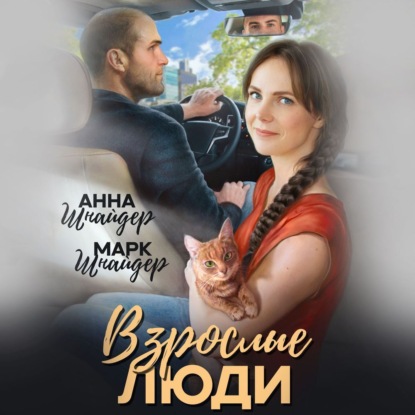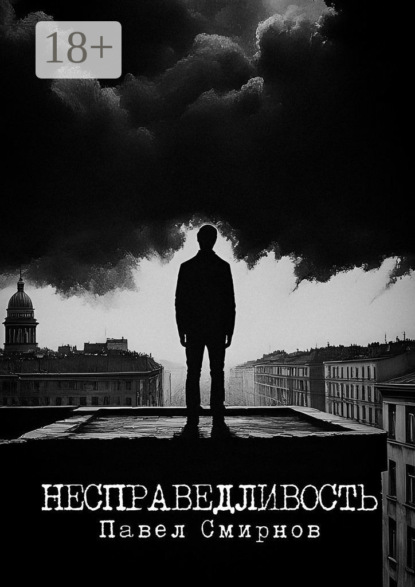
Полная версия:
Марк Шнайдер Несправедливость
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Несправедливость
Павел Владиславович Смирнов
Редактор Кая Шнайдер
Иллюстратор Кая Шнайдер
© Павел Владиславович Смирнов, 2025
© Кая Шнайдер, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0055-6611-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От Автора
Первое издание этой книги вышло в 2021 году, однако события, описанные в ней, относятся к 2017-му. Социальный контекст, бытовые детали и атмосфера повествования отражают реалии именно того периода.
Эта книга – вымысел. Жестокий, циничный и беспросветный. Я осуждаю все, что происходит на ее страницах.
Поступки героев – не повод для гордости, не руководство к действию и не романтизация боли. Особенно это касается описания противоправных действий. Наркоторговля, насилие, самосуд – все это преступления, не имеющие оправдания. В реальности они калечат жизни, разрушают семьи и ведут к неминуемому наказанию.
Если вы узнали в ком-то из героев себя – остановитесь. Оглянитесь. Попросите помощи. Потому что единственное, что страшнее описанного здесь кошмара – это принять его за норму.
Вымысел должен оставаться вымыслом. А жизнь – всегда дороже.
Перерождение
Глава 1. Подозрительный тип

Дверь. Холодная, белая, железная. На уровне глаз – табличка с вырезанной золотистой надписью: «ГЕРМАН». Буквы слегка потускнели по краям, будто их часто трогали.
Дима дотронулся до поверхности. Шершавая краска, мелкие пузырьки и неровности подушечками пальцев. Напоминает дверь в мою квартиру. Только там еще есть вмятины от чьих-то пинков и ржавчина под самой ручкой. А здесь – просто стерильный, выхолощенный холод.
Он постучал костяшками, приглушенный звук утонул в толще металла. Дернул за ручку – тяжелая дверь с глухим скрежетом подалась внутрь, открываясь неохотно, будто не желая впускать.
Дима сморщился и зажмурился. Кабинет ударил по глазам слепящей, почти хирургической яркостью. Все было белым. Не просто белым, а нарочито, агрессивно белым. Гладкие стены без единой трещины, белые стеллажи, нагруженные аккуратными рядами одинаковых папок, глянцевый белый потолок, отполированный до блеска белый пол. В огромное панорамное окно, затянутое легким тюлем, будто в самом деле бил прожектор, выжигая тени. Нужно привыкнуть. Минут пять? Десять? Или просто сжечь себе сетчатку и уйти отсюда слепым калекой – тоже ведь вариант. Не самый худший.
Он и не понял, сколько прошло. Время в этой белой коробке текло иначе. Открыл глаза, слеза смазала картину, и сначала он увидел лишь размытые пятна. Потом проступили очертания: низкий стеклянный стол, начищенный до зеркального блеска, и два кресла – кроваво-красные, как свежая рана на стерильной повязке. На одном из них сидел какой-то старик. Его длинные, неестественно светлые волосы были видны еще с порога. Нарцисс. Седина со временем ушла в оттенки пепла. Долго подбирал краску, стоя перед зеркалом?
– Здравствуйте… – Дима сделал пару неуверенных шагов вперед, ботинки отдавались глухим стуком по идеальному полу. – Извините… Герман, верно?
– Да, все верно, – улыбнулся мужчина. Улыбка была отработанной, ровной, как линия горизонта. – Подходите, присаживайтесь.
Дима закрыл за собой дверь. С потолка, с легким шелестом, посыпалась мелкая штукатурка, оседая на его плечах белой пылью. Кабинет, что ли, старый? Или это само здание так реагирует на мое присутствие, содрогаясь до самого фундамента?
Вокруг действительно царила белизна, и только эти два адово-красных кресла резали глаз, будто кадр из черно-белого фильма, где кто-то выплеснул ведро краски. Белый столик посередине, холодный и бездушный, отражал в себе искаженные силуэты комнаты, хотя отражать-то, по сути, было нечего – лишь пустота и свет.
Кресло оказалось на удивление мягким. Чересчур мягким. Будто провалился в пустоту. Или в чье-то неестественное, натянутое гостеприимство. Сейчас проглотит с головой.
Напротив, в позе, отточенной годами практики, сидел Герман: закинул ногу на ногу, руки сложил в один большой кулак и уперся ими в твердый, выступающий подбородок. Наблюдал. Настоящий психолог. Картинка из дешевого учебника. Сейчас достанет блокнот и начнет выводить каракули, делая вид, что записывает мою бредятину. Наконец Дима мог его рассмотреть, как следует: волосы были не просто светлыми, а явно крашеными – тот самый модный пепельный блонд, который смотрится нелепо на мужчине его лет. Зачем старику с проступающей сединой перекрашиваться в пепельный? Пытается сбросить лет двадцать? Странный тип. Нос с легкой, но упрямой горбинкой, не уродовал лицо, но так и чесались руки вправить этот мелкий дефект. Борода – жидкая, росшая только около рта, – делала его вылитым Уолтером Уайтом. Глаза серые, словно куски промерзшего за зиму льда. А все лицо – старое, испещренное морщинами, каждая из которых казалась заслуженной.
– Что ж, молодой человек, меня вы знаете, а я вас – нет. Представитесь? – улыбка не сходила с его лица, застывшая маска.
– Я Дмитрий. Дмитрий Александрович.
– Хорошо, Дмитрий, – Герман перевел взгляд на стеклянную столешницу, будто читая что-то в ее отражении. – Забавно, я тоже Александрович…
Дима ухмыльнулся. Не много Александровичей я повстречал за свою недолгую жизнь. Хотя имя Александр – как грязь на подошвах после осеннего дождя. Саньки, Сашки, Шурики. Классно. Просто зашибись.
– Дмитрий, с какой целью вы ко мне пришли?
Задает вопросы. Ну конечно, психолог. Разминка перед боем. Сейчас достанет блокнот, потом очки на нос напялит, сделает умное лицо.
– Я просто хочу кому-нибудь рассказать свою историю. Мне надоело молчать. Хочу, чтобы хоть кто-то узнал обо мне. Я всегда грустил, и мне было скучно жить, но именно сейчас я понял, каково это – «жить по-настоящему», – наконец выдохнул Дима, сам удивляясь пафосу собственных слов. – Понимаете?
Герман внимательно слушал. Не шевелился. Даже не моргал. Глаза пересохнут же, старик. Моргай. Или ты робот?
– И как вам это удалось, Дмитрий?
– Все благодаря моему другу. Только благодаря ему.
– Расскажите о нем. Как он помог вам?
– Это очень долгий рассказ, – сделал паузу парень, впиваясь взглядом в морщины на лице психолога, пытаясь найти в них хоть каплю искренности. – Вы точно готовы его полностью услышать?
– Конечно, вы можете написать книгу, как Ник Кэррэуэй в «Великом Гэтсби», – Герман ухмыльнулся, и в уголках его глаз собрались лучики новых морщин, – но вы же понимаете, что это займет куда больше времени? Так что, можете прямо сейчас рассказать. Времени у нас достаточно, мы с вами никуда не торопимся. Но, в любом случае, решать только вам.
А заслуживает ли этот старик моего рассказа? Это не просто история, это моя жизнь, вывернутая наизнанку. Ему подобные исповеди уже представляли десятки раз, а то и сотни… Он слушал чужие крики души, а потом шел пить чай с печеньем. А может, просто послать его на хер и свалить? Сказать, что передумал.
– Знаю, вы можете стесняться, можете не доверять мне, я вас полностью понимаю, – медленно, будто в такт негромко тикающим где-то часам, кивал головой Герман. – Не беспокойтесь, любой психолог – это сейф. Он держит всю жизнь своего пациента у себя в голове и никому ничего не рассказывает. Представьте, будто вы разговариваете с самим собой. Тем более, разве не за этим вы пришли ко мне? Вы еще у порога двери были согласны рассказать мне о себе.
Мысли читает. Вот зараза. Или он просто настолько предсказуем? Или ему на самом деле нужна моя история, как коллекционеру – очередной редкий экземпляр?
– Хорошо, – сдался Дима, откидываясь на спинку кресла и чувствуя, как мягкий материал обволакивает его. – Как я уже и говорил… Это очень долгий рассказ.
Герман кивнул. Будто сказал «все правильно, продолжай, я весь внимание».
– Все началось еще в начале одиннадцатого класса. С моего нового знакомства…
***
1 сентябряВоздух в классе был густым и спертым, пах старыми книгами, пылью и дешевым дезинфектантом, которым пытались замаскировать запах безнадеги. Это был одиннадцатый класс. Последний аккорд. Еще год – и все, можно валить, бежать, оставляя позади это желтое кирпичное здание с вечно плачущими от конденсата окнами. Год за годом – ничего здесь по-настоящему не менялось. Только старели преподаватели, взрослели и уходили учащиеся, менялись директора, словно фигуры на шахматной доске. А вот само здание… Здание все помнило. Оно впитывало в свои стены крики на переменах, шепот списывающих на контрольных, гул скучающих голосов. Оно помнило все моменты своего прошлого, начиная с самого первого кирпича. Школу начали проектировать еще при Союзе, в эпоху космических надежд и бетонных панелек, но когда великий и могучий Союз превратился в непредсказуемую Россию – строительство заморозили на самом начальном этапе. Денег не было, или были другие, более важные проблемы. Спустя несколько лет, уже при новой, непонятной власти, школу все-таки достроили. Спешно, кое-как, не учтя, что через годы здание будет хлипким, как карточный домик. Один раз ударишь с приложением силы по стене в туалете – и вот уже торчит кусок штукатурки, а за ним – уродливая дыра. А если дело доходило до настоящей драки, то эти картонные стены пробивались так легко, будто их и не существовало вовсе. Больно, конечно, было – и костяшкам, и спине, прижатой к этой бутафории. Повсюду, если приглядеться, виднелись следы ремонта – стены с заделанными дырами, отличающиеся по цвету от основной поверхности. Пятна. Можно было сразу прочитать историю: вот здесь не поделили сигарету, а тут – девчонку. А пройдя чуть дальше по коридору, можно было наткнуться на одинокое, огромное, как кратер, пятно – это кто-то влетел с ноги прямо в стену, пытаясь доказать что-то миру или самому себе.
Дима перешел в эту школу еще в десятом классе. Сдал экзамены в другой, более благополучной, и захотел чего-то нового. Резкой смены декораций. Он никогда особо не разговаривал с кем-то из одноклассников. Не потому что не мог – просто не видел смысла. Никаких общих интересов. Никаких совместных, пьяных вечеров или походов в кино. Одни вечные, тупые вопросы к нему по типу: «почему ты такой странный?». А он не был странным, он просто видел всех этих людей насквозь, видел их мелкие страхи, пошлые мечты и оголенную глупость, и не хотел опускаться до их уровня. Они все – глупы, и своей стадной, агрессивной странностью не понимают меня. Когда он перешел в эту школу, он сразу «познакомился» с некоторыми ублюдками из своего нового коллектива. Так хорошо познакомился, что на следующий день после первой же учебы получил сотрясение мозга в туалете на третьем этаже. Родителям, глядя в их уставшие лица, сказал, что поскользнулся на лестнице и ударился виском об угол ступеньки. Повели в больницу, а врачи-то умные, видавшие виды – сразу отличили кулак от тупого угла. Родителям, к их счастью или к несчастью, об этом не сообщили. Унижали его подобным образом около полугода, потом, видимо, новизна ощущений иссякла, и они отстали. Но Дима так и остался тихоней. Серой, незаметной мышкой. Никогда никого не бил и не унижал в ответ. Только в мыслях. В своих фантазиях он творил с ними такое, что Ганнибал Лектер бы прослезился.
И вот, он сидит в этом классе, за партой, испещренной поколениями учеников. Древняя, темная древесина, покрытая слоями лака и автографов. Дряхлые стены, с которых облупилась краска, и качающаяся, как зуб после удара, доска, на которой мелом выведено коряво: «С первым сентября!». Дима даже не слушал писклявый голос классной руководительницы, Ольги Ивановны, он просто смотрел на свою новую сумку, стоящую у ног. Красивая ведь, черная, матовая кожа, пахнет новизной и дороговизной. Идеально влезает ноутбук и пара учебников, ничего лишнего. Влюбился в нее с первого взгляда в магазине, как в самую лучшую, недосягаемую девушку, которая не будет капризничать по пустякам, не станет выедать мозги упреками и не заставит скучать. Она просто будет молча делать свое дело – носить в себе знания. Цена, правда, за такое сокровище была кусачей – почти десять тысяч. Целую тысячу с чем-то он наскреб из своих запасов, остальное пришлось выпросить у родителей на день рождения. Любви ведь не прикажешь. В итоге, она стала его главным подарком на восемнадцатилетие. И он радовался. Искренне, по-детски. Прекрасная, верная сумка.
– А теперь, ребята, важная информация! – писклявый голос Ольги Ивановны, похожий на скрип несмазанной двери, повысил свой тон, стараясь перекрыть общий гул.
Дима оторвался от созерцания сумки и поднял глаза.
И что ты хочешь нам рассказать? Что опять будет общешкольная линейка с дурацкими танцами? Или что учиться будем до ночи, потому что так надо для галочки?
– В этом году учебный процесс будет начинаться не как раньше! Теперь вы будете начинать учиться в полдевятого. Запишите себе где-нибудь, чтобы не забыть!
Отлично, просто замечательно. Теперь еще и времени на сон меньше. Целых тридцать минут украли. Кто это придумал? Директор?! Ну конечно директор, кто же еще? Да этот придурок уже умереть должен был после того как рак легких получил. Излечился, сука? Ремиссия у тебя? Ввел какие-то тупые, никому не нужные правила в учебном заведении, а сам, наверное, в это время в своем кабинете какую-то молоденькую училку лапаешь? Весь персонал школы ведь помнит, для чего ты водил к себе учениц год назад! Откупился своими деньгами, мразь. И ведь ничего тебе за это не было. Дело даже не завели.
Всего за один год Дима смог узнать о своей новой школе все. Все ее грязные секреты. Коррупция здесь была такой же обыденной, как и везде. Никогда ничего нигде по-настоящему не менялось. Только власть переходила из одних рук в другие. И то – никогда не уходила совсем.
В кабинет, не постучав, зашел какой-то парень. Вид у него был не то чтобы не выспавшийся, а скорее отрешенный, будто он только что вернулся из долгого путешествия по параллельным мирам. Темные круги под глазами, веки наполовину прикрыты. А по одежде – вылитый скинхед, этакий молодой бонхэд: тяжелые, начищенные до блеска военные берцы, рваные по коленям черные джинсы, темно-серая, почти черная рубашка в крупную клетку. Для полного комплекта только бритвой по голове пройтись, да пару нецензурных татуировок на шее набить.
В их школе, впрочем, можно было ходить в чем угодно. Хоть в домашнем халате и тапочках приходи – тебе ничего не скажут. Всем плевать. Абсолютно. Плевать – главный, негласный принцип этого места. Сам Дима сидел в своем классическом костюме: узкие черные брюки, свежевыглаженная белая рубашка и строгий черный пиджак. Неудобно, конечно, но зато красиво. Выглядел солидно.
Парня этого никто не заметил: ни Ольга Ивановна, продолжавшая бубнить что-то про расписание, ни сидящие ученики, погруженные в свои телефоны или в разговоры с соседями. Настолько всем плевать. По-видимому, это был новый учащийся их уже сформировавшегося коллектива.
Он, ничего не сказав, не извинившись за опоздание, прошел вдоль ряда и плюхнулся на свободную парту где-то сзади. Дима не обратил на него особого внимания, снова углубившись в изучение своей парты. Годы шли, а синие и черные каракули от шариковых ручек и перманентных маркеров на столах никогда не стирались, и никто не брал на себя труд их отмыть. Кто-то когда-то, от скуки, взял циркуль и со всей подростковой яростью вжал его иглу прямо в безобидное дерево, оставив потомкам бестолковые послания: «химичка – тупая сука», «школа – говно», «когда домой?», «а на хуй так жить?». И, конечно же, вечные, как сама жизнь, рисунки мужских и женских половых органов. Без этого, видимо, никак. Базовые инстинкты.
– А теперь запишите себе расписание! – воскликнула Ольга Ивановна, и в ее голосе прозвучали нотки почти что торжества.
Ну, еще и расписание, конечно же. Сейчас она зачитает его, как манифест, а оно окажется таким же идиотским, сдобренным никому не нужными уроками, как и все прошлые. Сплошная профанация.
– Итак, понедельник: русский язык, астрономия, химия… успеваете? – она окинула класс влажным взглядом.
Класс молча, как стадо покорных овец, кивнул в унисон.
– Хорошо. Значит: русский язык, астрономия, химия. Дальше: биология, алгебра и опять русский язык. Шесть уроков. Так, теперь вторник…
Дима перестал записывать где-то на «астрономии». Он с наслаждением закинул дорогую ручку обратно в свою прекрасную сумку и откинулся на спинку стула. Впереди – целый год. Всего лишь год.
***
Наконец, это закончилось. Вся та бессмысленная трескотня о планах на учебный год, важности ЕГЭ и школьной дисциплине растворилась в гуле расходящихся по домам учеников. Дима, как и все, совершил ежегодный «ритуал жертвоприношения» – протянул Ольге Ивановне упаковку гладиолусов, купленных накануне. Он всегда дарил цветы, ни разу не пропускал. Не из-за уважения, конечно. Так, традиция. Хоть эта учительница и была старой тварью, но нельзя же было просто пройти мимо. Или это родители так въелись в мозг – «нужно дарить цветы в любом случае, это знак внимания»?
Ольга Ивановна – преподаватель химии. Уже учит, а точнее – мучает детей, лет тридцать, не меньше. Старая, расплывшаяся, седая. Ходила еле-еле, переваливаясь с ноги на ногу, иногда опираясь на палочку с шариком на конце. Почти слепа, в огромных, круглых, как два иллюминатора, очках, и даже они не помогали ей разглядеть хоть что-то, кроме собственного недовольства. Но больше ее ненавидели не за слепоту, а за ужасный, скрипучий характер и, конечно, голос – писклявый и пронзительный, как звук трения пенопласта об стекло. Она никогда не давала исправить оценки: получил «два» – живи с этим клеймом до конца четверти. «Химичка – тупая сука». Эта надпись на его парте казалась самой справедливой во всей школе.
Он вышел из кабинета в знакомый, вечно сумрачный коридор. Желтоватое, болезненное свечение от старых люминесцентных ламп падало на обшарпанные стены. Еще год потерпеть. Всего лишь год. Это же так мало, правда? Кабинет химии находился на втором этаже, в самой глуши, в крыле, куда даже уборщицы заглядывали с неохотой. Пока идешь по этому бесконечному коридору до лестницы, успеваешь передумать всю свою жизнь и захотеть с разбегу вышибить ногой одно из грязных окон. Наконец он дошел до лестницы. Деревянные ступени, когда-то крашенные коричневой краской, теперь были истерты до древесины и отчаянно скрипели под ногами, словно предупреждая, что в любой момент все это сооружение может сложиться, как карточный домик. А вот и место, где буквально полгода назад разломали одну дощечку. Тогда было столько шума! Какой-то мелкий паренек из седьмого класса, балдуя, прыгнул на хлюпкую, прогнившую доску и поплатился – нога ушла по колено в образовавшуюся дыру, а вытащить ее самостоятельно не смог. Пришлось вызывать МЧС, или кто там этими делами занимается? Приехали, полчаса возились, достали.
Единичный случай, конечно. Но в школьной летописи хватало и повеселее. Когда-то, прямо во время занятий, один идиот кинул петарду прямо посередине этого же коридора. С ним «поговорили» и отпустили. Зря. Через неделю он принес целый фейерверк. Так же, под видом похода в туалет, вышел из класса, уперся в стену и поджег фитиль. Грохот стоял на всю школу, будто бомба упала. Если петарду в гулкой толчее можно было и не услышать, то это не услышать было невозможно. Вызвали родителей. Отчислили. Говорили, у парня какое-то расстройство было. Шизофрения, или что-то в этом роде.
Диме всегда нравилось наблюдать за такими случаями. Может, мне просто смертельно скучно, но подобный треш веселил и давал заряд какого-то животного, искреннего счастья на весь оставшийся день.
Вот и первый этаж. Его украшала только одна вещь – огромная, многоярусная люстра, висящая посреди холла. Такого же, советского времени. Она, рассказывали, падала как-то, пока Дима лежал в больнице с тем самым сотрясением. Удивительно, но она уцелела, ни одна подвеска не разбилась. Невероятно красивая, массивная, золотистая. Она блестела в тусклом свете, как множество настоящих бриллиантов. Умели же в СССР делать красивые и невероятно прочные вещи. Не то, что сейчас.
Кто-то тронул его за плечо – легкое, но уверенное давление. Дима обернулся. Новенький, тот самый, в берцах и клетчатой рубахе. Стоял чуть выше, на пару сантиметров. И что ему, черт возьми, надо?
– Да? – усталым, намеренно безразличным голосом спросил Дима.
– Эм, слушай. Тут все какие-то агрессивные, не хотят разговаривать. А ты вроде не выглядишь, как они. Меня Вовой звать, можешь Владимиром, или Володей, как тебе угодно.
Голос у него был низким, с легкой хрипотцой, что странно контрастировало с моложавым, еще не испорченным лицом. Может, и вправду скинхед? Или просто голос ломается?
– И? – Дима поднял бровь.
– Я бы хотел просто спросить, что здесь из себя все представляет? – парень смотрел прямо в глаза, не отворачиваясь, будто пытался прочитать ответ на внутренней стороне черепа.
Дима ухмыльнулся. Домой бы, бля, поскорее. Почему он подошел именно ко мне? Вон там, классный руководитель плетется, к ней иди, задавай свои дурацкие вопросы. Почему ко мне?!
– Все просто, – сказал Дима, делая вид, что это его ни капли не волнует. – В этом учебном заведении учатся одни придурки. Если хочешь прожить здесь год, то советую просто не лезть в плохие компании. Хотя, по твоему внешнему виду сразу можно понять, что ты сам можешь эту компанию разогнать при желании.
Вова посмеялся, коротко и искренне.
– Не, мне просто нравится так ходить, это удобно.
– То есть, не скинхед?
– Не-а, – покачал головой парень. – Я такой же, как и все вы.
Ладно, теория со скинхедом опровергнута. Вещи удобные… Что ж, бывает.
– Учеба начинается в полдевятого. Смотри, не пропусти. А я пошел, – закончил Дима и молча двинулся к выходу, не дожидаясь ответа.
– Спасибо! – вслед ему крикнул Вова.
Ну неужели он отстал? Странный какой-то тип. Он мог подойти к кому угодно, но подошел именно ко мне. Почему я не выгляжу как они? Абсолютно все в этой школе – унылые придурки, которые улыбаться-то толком не умеют. Может, во мне есть что-то… другое? Или он это тактически рассчитал?
Он вышел из здания, и его обдало потоком свежего, прохладного воздуха. Зеленые деревья, еще не тронутые осенней желтизной. Нужно наслаждаться этим, пока не наступит осень, а там и зима. Зима вообще ужасное время года, один только пронизывающий холод. Особенно в Петербурге. Построили город на болотах, на Севере, и что теперь? Отопление включают только когда уже все синеют от холода. Деньги экономят? Знаем мы эту экономию. Все для людей. Он представил лицо отца, уставшее после смены. У отца – зарплата нулевая.
Дима жил в километре от школы, пешком спокойно можно было дойти. Хоть где-то мне повезло. Место жительства – рядом с метро. Станция «Звездная» находилась в пяти минутах ходьбы от его парадной. Вокруг проносились люди, которых он будто бы уже видел тысячу раз. В таких спальных районах Петербурга обычно только свои и жили. Каждый друг друга знал, если не в лицо, то в слух. Как одна большая, серая, недружелюбная деревня. Но была в этой деревне проблема, которая существовала во всех подобных «деревнях». Приезжие. Люди с настоящих, далеких деревень. Дима тихо ненавидел тех, кто приезжал с какой-то отдаленной точки вроде Ростовской области или Дагестана. Ну, если уж приехали учиться – учитесь и валите обратно после учебы. Зачем вы здесь остаетесь жить? Цивилизация? Не достойны вы этой цивилизации. Сидите у себя на родине, не лезьте сюда со своим укладом.
– Ой, привет!
Дима остановился, осмотрелся. Из-за угла парадной вышел Виктор Петрович, старый знакомый его отца. Хороший, в общем-то, мужик, восьмой десяток уже живет. Отрывался на всю катушку: пил каждый день, не скрывая этого, также выкуривал минимум пачку сигарет в день. Умереть хочет, да побыстрее. Нечего уже делать в этой жизни, все успел: и поработал на заводе, и поженился, и даже дети появились, которые теперь его избегают. Осталось только построить дом и вырастить дерево. Дом, ясное дело, не построил, а дерево, глядя на него, скоро само вырастит – на могиле.
– Здрасьте, дядь Вить. Как жизнь? – Дима сделал вежливое лицо.
– Да вот, блин, продал кольцо своей жены, оно ей точно уже не понадобится. Представляешь, всего шестнадцать тысяч стоит! А когда покупал за границей – отдал восемьдесят, – Виктор Петрович развел руками, и от него пахнуло перегаром и дешевым табаком. – Ну, на тот момент это очень солидные деньги были.