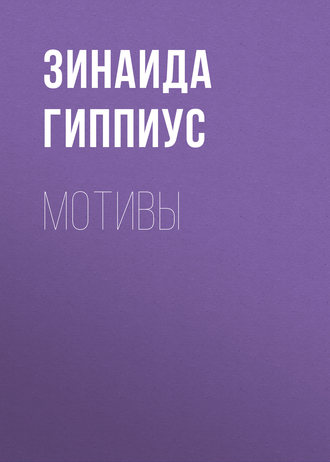
Зинаида Гиппиус
Мотивы
– Послушайте, Рожэ. Мне, право, непонятно: почему вы так упрямо хотите умереть? Может быть, здесь, в одиночестве вы обдумали… Вы жалеете… Ах, если б вы знали вашего отца!
– Я знаю все о нем. А что ж жалеть? Раскаиваться? Это судьба. Я отлично мог не попасться.
– Да нет! Я о том, что вы, ведь, убили…
– Отец тоже убил. И не одного, вероятно.
– Что вы говорите? – ужаснулся я. – Какое же сравнение? Отец ваш жертвовал собою…
– То есть шел на риск. Мог и не проиграть. Проиграл – заплатил. Так же и я, раз проиграл. А вам аналогию заслоняет разница мотивов. Вы все не действия судите, не факты, а мотивы. Какой смысл? Условность старая. Допустим, у отца свои были мотивы, у меня свои, но если факты одинаковые, – что это меняет?
Признаться, я даже не нашелся сразу что ответить. А Рожэ добавил, подняв на меня карие глаза, – совсем отцовские, только пустоватые какие-то:
– Вот и не уговаривайте меня больше. И другим скажите. Что ж, не всегда бывает удача. Я вполне мог бы не попасться. Не удалось, попался, – о чем еще разговаривать?
Так и кончилось. Скажу еще, что своеобразного своего мужества Рожэ не потерял до… до последней минуты. Старику я о нашем свидании тогда и не рассказал. Очень он изменился. Будто жизнь в нем медленно стала иссякать, усыхать. Сначала все боялся, как бы до старушки чего не дошло. Но, пожалуй, напрасно боялся: она как во сне жила; о Рожэ, верно, и забыла. Только от старика своего ни на шаг. А раз, говорил он мне, сидела она здесь на скамейке, и сзади мальчишеский голос закричал: «Maman! maman!». Она, словно разбудили ее, позвали, встрепенулась, заторопилась… Ну, он успокоил.
Вдолге, уж через год, я старику о свидании с Рожэ и о «мотивах» рассказал. К слову пришлось, о современности мы говорили. Старик слушал, молча. А я увлекся, и у меня вырвалось жестокое слово:







