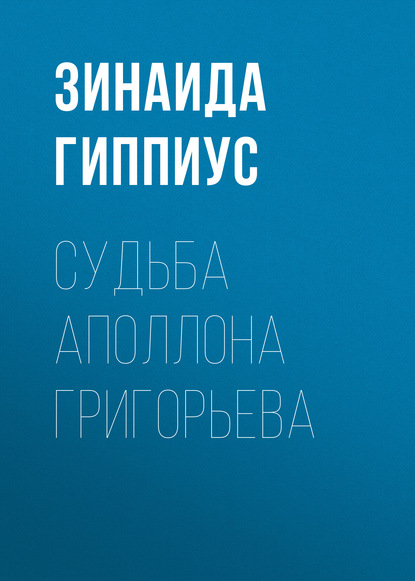Полная версия:
Зинаида Николаевна Гиппиус Жизнь и литература (1913)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Зинаида Гиппиус
Жизнь и литература (1913)
I. Обывательство. II. «Совесть» и «честь» для интеллигенции[1]
Слишком много тем и в жизни, и в литературе. Вернее – слишком много явлений, подводящих к нескольким темам, которые меня интересуют.
Журналисту поневоле приходится делать выбор, – и жаль того, что оставляешь или чего касаешься чересчур мимолетно.
О нашей «обывательщине» я писал, но тема неисчерпаема и очень современна.
Веяние обывательщины в литературе я почувствовал опять, с новой силой, когда смотрел пьесу Л. Андреева «Профессор Сторицын», поставленную в прошлом декабре на сцене Александринского театра.
Бранить Л. Андреева за его «Сторицына» я не собираюсь. Когда на Андреева указывали, как на пророка, который де открыл нам какие-то художественные горизонты и т. д., – ну, в то время следовало доказывать, что никаких он горизонтов не открыл и в пророках не бывал. Говорить это в данное время – значило бы ломиться в открытую дверь. Я нахожу даже, что изменница-критика (всегда мстящая за свои чрезмерные увлечения) не очень справедлива к Л. Андрееву. Нисколько он не стал хуже писать. В «Профессоре» наполовину меньше риторики и фальши, чем в старой драме «К звездам», а, ведь, какой это был восторг перед «Звездами!».
Чем шире требования, которые мы предъявляем, тем строже суд. Уменьшим наши требования к Андрееву, – не за что будет и бранить его. Мне скажут: но есть же примитивные законы эстетики, есть известные условия, есть непереступные черты, которые Андреев переступает. Не знаю; пожалуй, для таланта Л. Андреева «закон не писан». В его драме «Профессор Сторицын» условия искусства не соблюдены, однако, и никаких причин возмущаться драмой нет: стоит только не подходить к ней с художественным аршином.
Имела ли драма успех – я, по совести, не могу сказать. Как будто и был успех, даже энтузиазм, а как будто чего-то недоставало.
Впрочем, друг мой (тот, который несколько похож на щедринского Глумова и горой стоит за «обывателя») сказал мне после третьего действия:
– Вот, ведь, что… Литературой тут, конечно, и не пахнет, я понимаю. А вот: Андреев, сам того не ведая, жалеет людей. Этих, наших, средних. Так уж он низко, так близко… всякий может ухватиться. Ухватившись-то, все же на полвершка подымется. На полвершочка к Андрееву. Это лучше, чем на высокую гору… совсем не подняться. Понимаешь?
Я понимал. Опять то же, опять старый вопрос: о пленении и постепенном воспитании обывателя. Но тут вопрос разрешался сам собою: раз Андреев естественно выше обывателя на полвершка, – по мнению моего друга, – то никакой «политики» тут нет, ничего и дурного нет.
Мне, однако, показалось, что «профессор Сторицын» не везде стоит на полвершка выше «жизни», а уходит порою на эти же полвершка от нее куда-то в сторону. Сын-оболтус – да у каждого обывателя сын оболтус; надоевшая толстая жена с атлетом-любовником, уродливый домашний быт, сам обыватель (случайно «знаменитый»), как несчастная жертва быта, мечтающая «жить красиво», даже девица-поклонница, символ «нетленной красоты», – да, все это близко, понятно, это есть… Но взятое в тех размерах, которые Расплюев называет «до бесчувствия», оно быть перестает, обыватель ему уже не верит. И не хватается – и подыматься некуда. Поэтому в трагических, – именно «до бесчувствия» трагических, – местах слышался смех. Поэтому и сказала благожелательная дама из публики меткое слово: «…Удивляюсь. Это очень страшно… и скучно. Страшно – и скучно».
Может ли кому-нибудь в одно и то же время быть и страшно, и скучно? Обывателю может. И как раз тогда, когда его уводят, с грубостью, на полвершка в сторону от «жизни». Если на полвершка вверх – только страшно; приятно-страшно. Если на версту в сторону – только скучно, да и не пойдет обыватель, как на версту вверх не полезет. А вот тут, ежели тянут, пугая всякими «словами», чуточку в сторону, – тут и страшно, и скучно – вместе.
Жизненные гадости, окружающие «профессора», – нежизненны: они доведены «до бесчувствия», как и жертвенность самого профессора; углублять еще можно без меры, но, не умея углублять, Андреев огрубляет без меры; и обывателю скучно. Вот эти «скучные» места пьесы с правом можно поставить в упрек автору. «Безмерность» – природный его недостаток, но все же он мог бы кое-что исправить, поработав. Никаких других упреков мы не делаем: ведь, мы коренным образом изменили точку зрения на Л. Андреева, сократили наши требования. Если быть на полвершка выше обывателя, тянуть его силой «искусства» туда же – естественная миссия Л. Андреева, то, исполняя ее, он прав и неуязвим.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Помещая статью А. Крайнего, затрагивающую интересный вопрос о роли и будущности интеллигенции, редакция ‹журнала› отмечает свое несогласие с некоторыми взглядами автора.