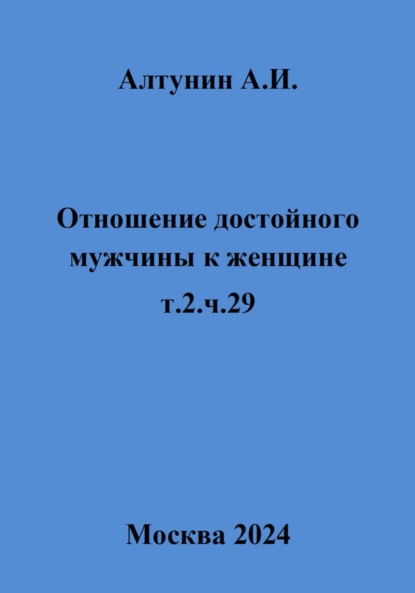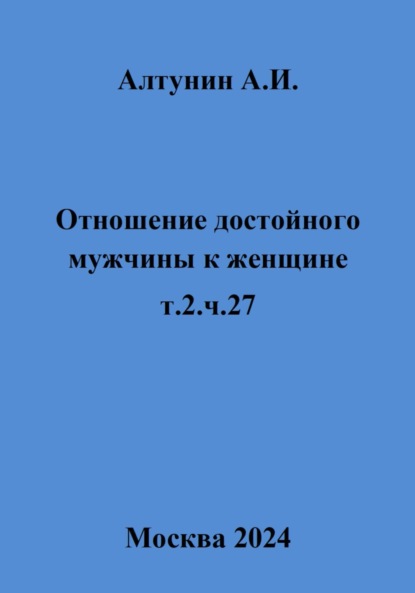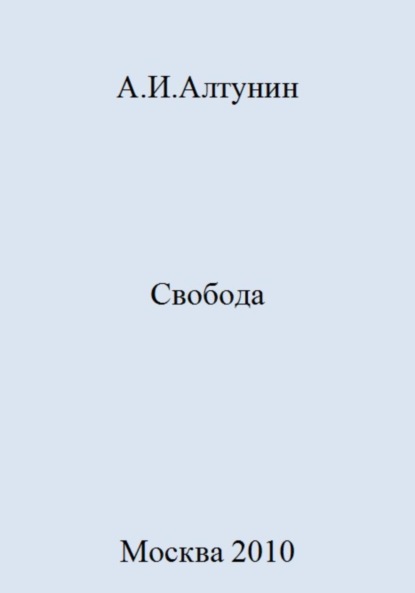
- Рейтинг Литрес:5
Полная версия:
Александр Иванович Алтунин Свобода
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Алтунин
Свобода
Некоторые читатели могут упрекнуть автора в том, что пытается рассказывать им слишком элементарные вещи, которые хорошо известны даже ребенку. И усмотреть в этом своего рода оскорбление собственного самолюбия. Но это всего лишь очередная иллюзия из бесконечного ряда таковых. Но не только широко распространенных в человеческом обществе, но и весьма устоявшихся в общественном мнении. Начнем с того, что, по мнению одного из ведущих европейских психологов Э. Фромма, девяносто – девяносто пять процентов людей, как правило, не знают что именно делать с этой пресловутой свободой. И это очень актуальная и злободневная проблема всего человечества в целом. И, чем выше уровень цивилизации (в современном понимании этого слова), тем выше уровень проблематичности и драматичности явления «свобода».
Многие классики писали о том, что «свобода – это осознанная необходимость». Или еще что-нибудь в этом роде. В то время как, в житейском представлении, свобода – это предоставление возможности делать что угодно, когда угодно, где угодно и как угодно. С формальной точки зрения, это действительно так. Но это еще один случай жесткого конфликта и противоречия мирской и духовной логики жизни. Когда то, что хорошо и правильно с житейской точки зрения, совсем не хорошо с духовной.
Распространенное фундаментальное духовное невежество, в частности, проявляется еще и тем, что многие люди имеют предельно смутное представление о духовной составляющей человеческой жизни вообще и своей конкретной, в частности. И о том, что существуют четкие и конкретные психологические и духовные законы жизни, которые не позволено нарушать никому, нигде и никогда. Ибо, за каждое, даже самое минимальное нарушение этих законов, идет вполне определенное наказание от Высших сил Вселенной. Не обязательно завтра. Но, тем не менее. Иногда тяжесть этого наказания может увеличиваться по нарастающей. Так, сказать, суммарно. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. И с этой позиции выглядит, мягко говоря, странным то, что большинство людей ведет предельно праздный образ жизни. С духовной точки зрения. И принципиально не желает повышать уровень своей духовности даже на один процент. Исходя из того, что их уровень ничуть не ниже того, что имеется у большинства других окружающих. То, что у окружающих он находится в интервале пять-десять процентов, остается, что называется, вне их поля зрения. Потому как, для большинства людей главной задачей жизни является не обретение истинной личностной гармонии, а возможность выглядеть не хуже своего окружения.
Об истинной свободе можно вести речь только применительно к людям, обладающим на самом деле (а не в сфере собственной своеобразной фантазии) высоким уровнем конструктивности и созидательности, зрелости и самодостаточности, одухотворенности и гармоничности. Когда человек весьма подробно, многогранно и изощренно представляет себе то, что следует делать, как, когда, зачем и почему. В противном случае, его представление о свободе, скорее всего, это явление жизни, полное разнообразных и многочисленных искажений и извращений. С интеллектуальной и психологической, духовной и эстетической точки зрения. Как правило, все выше перечисленные параметры на высоком уровне бывают представлены лишь у истинных интеллигентов классического типа. Которые встречаются, мягко говоря, предельно редко. В большинстве стран мира. В отдельных странах Европы ситуация с интеллигентами обстоит несколько лучше. Но это, к сожалению, не делает погоды для всего человечества. В настоящее время. И очень трудно представить себе конкретно то, когда это положение дел существенно изменится в лучшую сторону. Ибо, отношение основной части человеческого общества к своим истинным интеллигентам и аристократам, как показывает история человечества, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И так было и две тысячи лет назад и, видимо, и через две тысячи лет останется прежним. Поэтому говорить о какой-либо существенной эволюции человечества в целом не приходится. Ни в настоящее время, ни в обозримом будущем. И проблема, как ни странно, упирается, в том числе, и в понимание явления «свобода». Точнее сказать, в степень его искаженности и извращенности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.