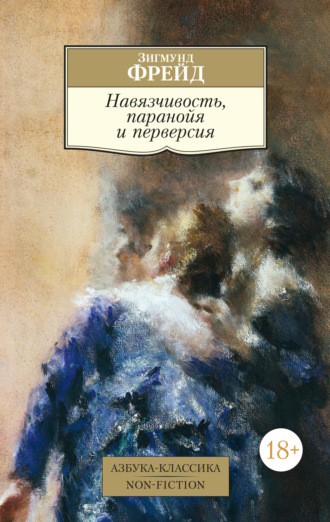
Зигмунд Фрейд
Навязчивость, паранойя и перверсия
Однажды он рассказал мне сон, содержавший изображение этого же конфликта в переносе на врача: моя мать умерла, он хочет выразить соболезнование, но опасается, что при этом разразится нахальным смехом, как это уже не раз бывало в случаях смерти. Поэтому он предпочитает написать мне открытку с р. с., но при написании эти буквы у него превращаются в p. f.[37]
Спор между его чувствами к своей даме был слишком явным, чтобы можно было полностью избежать его сознательного восприятия, хотя из навязчивых проявлений больного мы вправе заключить, что верной оценкой глубины своих негативных побуждений он не обладал. На первое его сватовство десять лет назад дама ответила отказом. С тех пор периоды, когда, как ему казалось, он ее сильно любил, сменялись другими, в которых он чувствовал себя к ней равнодушным. Если в ходе лечения ему требовалось сделать шаг, который приблизил бы его к цели ухаживаний, то обычно в форме убеждения в том, что, в сущности, не настолько сильно он ее любит, сперва проявлялось его сопротивление, которое, правда, вскоре преодолевалось. Однажды, когда она слегла от тяжелой болезни, что вызвало у него чрезвычайное сочувствие, при виде ее у него прорвалось желание: «Пусть она навсегда останется лежать». Он истолковал себе эту мысль с помощью хитроумного недопонимания: он желает ей постоянного нездоровья лишь потому, что тем самым избавится от страха перед повторными приступами болезни, выносить который он не может![38] Иногда он занимал свою фантазию грезами, которые сам признал «фантазиями о мести» и которых стыдился.
Полагая, что она придает большое значение социальному положению жениха, он фантазировал, будто она вышла замуж за государственного служащего. Он сам поступает на эту же службу и добивается гораздо большего, чем тот, который становится его подчиненным. Однажды этот человек совершает неблаговидный поступок. Дама бросается к ногам пациента и умоляет его спасти ее мужа. Он обещает помочь, признается ей, что поступил на службу лишь из любви к ней, потому что предвидел подобное обстоятельство. Теперь, выручив ее мужа, он выполнил свою миссию и отказывается от должности.
В других фантазиях, содержанием которых было то, что он оказывает даме большие услуги, а она не знает, что это делает именно он, он видел только проявление нежности, не сознавая происхождения и тенденции своего великодушия, предназначенного – по прототипу графа Монте-Кристо Дюма – для вытеснения мстительности. Впрочем, он признался, что иногда им овладевают совершенно отчетливые импульсы причинить зло почитаемой им даме. Как правило, эти импульсы в ее присутствии исчезали и возникали в ее отсутствие.
Е. Повод к болезни
Однажды наш пациент вскользь упомянул об одном событии, в котором мне тут же пришлось признать повод к заболеванию, во всяком случае новый повод к начавшейся шесть лет назад и продолжающейся еще и сегодня болезни. Сам он не подозревал, что сообщил нечто важное; он не помнил, чтобы придавал какое-либо значение этому событию, которое, впрочем, он никогда и не забывал. Такое поведение требует теоретической оценки.
При истерии существует правило, что недавние поводы к заболеванию подвергаются амнезии точно так же, как детские переживания, с помощью которых их аффективная энергия преобразуется в симптомы. Если же полное забывание невозможно, недавний травматический повод все же подтачивается амнезией и лишается по меньшей мере самых важных своих составных частей. В такой амнезии мы усматриваем доказательство произошедшего вытеснения. Иначе обстоит дело при неврозе навязчивости. Инфантильные предпосылки невроза могут подвергнуться – зачастую только неполной – амнезии; недавние поводы к заболеванию, напротив, сохраняются в памяти. Вытеснение здесь воспользовалось другим, в сущности более простым механизмом; вместо того чтобы забыть травматическую ситуацию, оно лишило ее аффективного катексиса, и поэтому в сознании остается безразличное содержание представления, расцениваемое как несущественное. Различие состоит в психическом событии, которое мы можем сконструировать, основываясь на феноменах; результат процесса почти одинаков, ибо безразличное содержание воспоминания воспроизводится лишь изредка и никакой роли в мыслительной деятельности человека не играет. Для различения двух видов вытеснения вначале мы можем использовать только заверение пациента, что, по его ощущениям, одно он знал всегда, а другое давно забыл[39].
Поэтому отнюдь не редкость, что больные неврозом навязчивости, страдающие от самообвинений и связывающие свои аффекты с ложными поводами, сообщают врачу верные сведения, не подозревая, что их упреки всего лишь отделены от этих событий. При этом они порой высказываются с удивлением или даже как будто хвастаясь: «Для меня это значения не имеет». Так было и в первом случае невроза навязчивости, который много лет назад меня привел к пониманию недуга. Пациент, государственный служащий, страдавший от бесконечных сомнений, тот самый, о чьем навязчивом действии с веткой в Шёнбрунском парке я сообщал, обратил мое внимание тем, что за визит на прием всегда вручал мне чистые и гладкие бумажные гульдены. (В то время у нас в Австрии еще не было серебряных монет.) Когда я однажды заметил, что государственного служащего можно сразу определить по новехоньким гульденам, которые он берет из казны, он меня вразумил, что гульдены отнюдь не новые, просто разглажены (отутюжены) у него дома. Ему совестно давать кому-либо в руки грязные бумажные гульдены, ведь к ним пристали самые опасные бактерии, которые могут причинить вред тому, кто их получает. К тому времени у меня уже забрезжило смутное подозрение о взаимосвязи неврозов с сексуальной жизнью, и поэтому в другой раз я отважился спросить пациента, как у него обстояли дела в этом вопросе. «О, все в порядке, – сказал он походя, – в этом я не испытываю недостатка. Во многих домах добропорядочных бюргеров я играю роль любимого старого дядюшки и время от времени пользуюсь этим, чтобы пригласить какую-нибудь молоденькую девушку на загородную прогулку. Затем я устраиваю так, что мы опаздываем на поезд и нам приходится ночевать в деревне. Тогда я всегда беру две комнаты – я очень щедр; но когда девушка ложится спать, я прихожу к ней и мастурбирую ее своими пальцами». – «А вы не боитесь, что навредите ей, орудуя своей грязной рукой в ее гениталиях?» – Тут он вспылил: «Вред? Чем же это должно ей навредить? Ни одной пока еще это не навредило и каждой это нравилось. Некоторые из них сейчас уже замужем, и это им не навредило». Он воспринял мое возражение очень враждебно и больше не появился. Но я мог объяснить себе контраст между его деликатностью с бумажными гульденами и его бесцеремонностью в обращении с доверенными ему девушками только смещением аффекта, связанного с упреком. Тенденция этого смещения довольно ясна; если бы упрек оставался там, к чему он относился, пациент должен был бы отказаться от сексуального удовлетворения, к которому его, вероятно, побуждали сильнейшие инфантильные детерминанты. Стало быть, благодаря смещению он извлекал значительную выгоду от болезни.
На поводе к болезни у нашего пациента я должен, однако, остановиться подробнее. Его мать в качестве дальней родственницы воспитывалась в одной богатой семье, которая владела крупным промышленным предприятием. Его отец после женитьбы был принят на работу на это предприятие и таким образом в результате удачного выбора, по существу, обеспечил себе зажиточную жизнь. Благодаря подтруниванию между родителями, жившими в прекрасном браке, сын узнал, что какое-то время до знакомства с его матерью отец ухаживал за милой, но бедной девушкой из скромной семьи. Такова предыстория. После смерти отца мать однажды сказала сыну, что между нею и ее богатыми родственниками зашла речь о его будущем и один из кузенов изъявил готовность выдать за него замуж одну из своих дочерей, когда он закончит учебу; деловые связи с фирмой затем откроют ему блестящие перспективы также и в его профессии. Этот план семьи породил в нем конфликт: что ему делать – оставаться верным своей бедной возлюбленной или пойти по стопам отца и взять в жены красивую, богатую, знатную девушку, которая ему предназначена? И этот конфликт, который, собственно говоря, представлял собой конфликт между его любовью и продолжавшей оказывать свое влияние волей отца, он разрешил посредством заболевания, точнее сказать: благодаря заболеванию он избежал задачи решать его в реальности[40].
Доказательство правильности такого понимания заключается в том, что главным результатом его заболевания явилась затяжная потеря трудоспособности, которая позволила ему отложить окончание учебы на несколько лет. Но то, что является результатом болезни, и было ее намерением; кажущееся следствие болезни – на самом деле ее причина, мотив заболевания.
Мое объяснение, разумеется, вначале не нашло признания у больного: он не может представить себе, чтобы план женитьбы оказал такое воздействие, в свое время это не произвело на него ни малейшего впечатления. Однако в ходе дальнейшего лечения ему пришлось необычным способом убедиться в правильности моего предположения. Благодаря фантазии при переносе он пережил как нечто новое и относящееся к настоящему времени то, что им было забыто из прошлого или что им попросту не осознавалось. После смутного и трудного периода лечебной работы в конце концов выяснилось, что он принял за мою дочь одну молодую девушку, которую он как-то встретил на лестнице моего дома. Она вызвала его расположение, и он вообразил, что я так любезен и необычайно терпим с ним лишь потому, что хочу сделать его своим зятем, при этом благодаря ему богатство и знатность моего дома достигает уровня, соответствующего имевшемуся у него образцу. Но с этим искушением в нем борется неугасимая любовь к своей даме. После того как мы справились с целым рядом сильнейших сопротивлений и грубейших оскорблений, он не мог избежать убеждающего воздействия полной аналогии между представленным в фантазии переносом и тогдашней реальностью. Я приведу одно из его сновидений из этого времени, чтобы показать на деле тот стиль, каким он это изображал. Он видит перед собой мою дочь, но вместо глаз у нее два грязных пятна из нечистот. Для каждого, кто понимает язык сновидений, перевод не составит труда: он женится на моей дочери не из-за ее красивых глаз, а из-за ее денег.
Ж. Комплекс отца и разгадка идеи о крысах
От повода к болезни в зрелые годы вела нить в детство нашего пациента. Он оказался в ситуации, в какой, как он знал или подозревал, находился отец перед своей женитьбой, и мог отождествить себя с отцом. Умерший отец оказался причастным к недавнему заболеванию еще и другим образом. В сущности, конфликт, приведший к болезни, представлял собой столкновение между продолжавшей оказывать свое действие волей отца и его собственными желаниями влюбленного человека. Если мы примем к сведению то, что рассказал пациент на первых сеансах лечения, то мы не сможем отделаться от подозрения, что это столкновение было очень древним и началось еще в детские годы больного.
По всем сведениям, отец нашего пациента был прекрасным человеком. До женитьбы он был унтер-офицером и сохранил солдатскую прямоту, а также пристрастие к крепким выражениям. Помимо добродетелей, которые обычно у каждого превозносят на могильной плите, его отличали задушевный юмор и благожелательная терпимость к своим близким: разумеется, этой черте характера не противоречит, а, скорее, является дополнением к ней, что он мог быть резким и вспыльчивым, что иной раз способствовало весьма ощутимым телесным наказаниям детей, пока они были маленькими и плохо себя вели. Когда дети выросли, он отличался от других отцов тем, что не хотел возвеличивать себя до неприкосновенного авторитета, а с добродушной открытостью делился с ними мелкими упущениями и неурядицами в своей жизни. Сын, несомненно, не преувеличивал, когда говорил, что они общались между собой как лучшие друзья, за исключением одного-единственного момента. Этот момент, пожалуй, должен быть важен, если мысль о смерти отца занимала малыша с такой необычной и неподобающей интенсивностью, если такие мысли вновь проявились в содержании его детских навязчивых идей, если он мог пожелать, чтобы отец умер и тем самым некая девочка, испытывая сострадание, станет вести себя с ним более ласково.
Нельзя сомневаться, что в области сексуальности между отцом и сыном что-то стояло и что отец находился в определенной оппозиции по отношению к рано пробудившейся эротике сына. Через несколько лет после смерти отца, когда сын впервые испытал ощущение удовольствия от коитуса, у него возникла мысль: «Как это замечательно; ради такого можно убить и своего отца!» Это было одновременно отголоском и разъяснением его детских навязчивых идей. Впрочем, незадолго до своей смерти отец открыто высказался против симпатии нашего пациента, которая станет доминировать впоследствии. Он заметил, что сын искал общества той дамы, и посоветовал ему держаться от нее подальше, сказав, что это неблагоразумно и что он только себя опозорит.
К этим совершенно надежным отправным точкам добавляется еще одна, если мы обратимся к истории онанистической сексуальной деятельности нашего пациента. В этой области существует пока еще не оцененное должным образом противоречие между взглядами врачей и больных. Последние едины в том, что онанизм, под которым они понимают мастурбацию в пубертате, является причиной и первоисточником всех их недугов; врачи в целом не знают, что об этом думать, но под впечатлением того опыта, что очень многие люди, ставшие затем нормальными, какое-то время также онанировали в пубертате, в своем большинстве склонны расценивать сведения больных как грубое преувеличение. Я думаю, что и в этом больные скорее правы, нежели врачи. У больных неясно вырисовывается здесь верное понимание, тогда как врачам грозит опасность проглядеть нечто существенное. Разумеется, дело не обстоит именно так, как сами больные понимают свой тезис, что онанизм в пубертате, который можно назвать чуть ли не типичным, ответственен за все невротические нарушения. Тезис требует истолкования. Ведь онанизм в пубертатном возрасте – в действительности не что иное, как возобновление детского онанизма, достигающего своей вершины в возрасте от трех до четырех-пяти лет, которому до сих пор никогда не уделяли должного внимания. Однако этот детский онанизм является самым отчетливым выражением сексуальной конституции ребенка, в которой также и мы ищем этиологию последующих неврозов. Стало быть, в таком облачении больные обвиняют, собственно говоря, свою инфантильную сексуальность, и в этом они полностью правы. Проблема онанизма, напротив, становится неразрешимой, если понимать онанизм как клиническую единицу, забывая, что он представляет собой отвод самых разнообразных сексуальных компонентов и вскормленных ими фантазий. Вредность онанизма лишь в незначительной степени является автономной, обусловленной его собственной природой. По существу, она совпадает с патогенным значением сексуальной жизни в целом. Если так много индивидов без вреда переносят онанизм, то есть занятие онанизмом в определенном объеме, то этот факт свидетельствует только о том, что их сексуальная конституция и течение процессов развития в сексуальной жизни позволили им осуществлять эту функцию в культурных условиях[41], тогда как другие вследствие неблагоприятной сексуальной конституции или нарушенного развития заболевают из-за своей сексуальности, то есть не могут без торможений и замещающих образований исполнить требования подавления или сублимации сексуальных компонентов.
Онанистическое поведение нашего пациента было весьма необычным; он не занимался онанизмом в пубертате и, стало быть, соответственно известным ожиданиям, имел право на то, чтобы оставаться избавленным от невроза. И наоборот, позыв к занятию онанизмом возник у него в 21 год, вскоре после смерти отца. Каждый раз, когда он достигал удовлетворения, ему было очень стыдно, и вскоре он снова от него отказался. Отныне он занимался онанизмом лишь по редким и весьма странным поводам. «Его вызывали особенно прекрасные моменты, которые он переживал, или особенно прекрасные места в книге, которую он читал. Так, например, когда прекрасным летним вечером он слушал, как ямщик замечательно играл на рожке в центральной части города, пока полицейский не запретил ему это, потому что игра на рожке в городе запрещена! В другой раз, когда он прочитал в „Вымысле и правде“, как молодой Гёте в порыве нежности избавился от проклятия, которое одна ревнивица наложила на ту, кто после нее поцелует его в губы. Он долго, словно суеверно, позволял этому проклятию себя сдерживать, но теперь он разорвал путы и нежно расцеловал свою возлюбленную».
Он немало удивлялся, что его влекло мастурбировать именно по таким прекрасным и возвышенным поводам. Но из этих двух примеров я должен был выделить в качестве общего момента запрет и неповиновение требованию.
К этой же взаимосвязи относилось также и его странное поведение в то время, когда он готовился к экзамену и обыгрывал полюбившуюся ему фантазию, что отец по-прежнему жив и в любой момент может вернуться. Тогда он обустраивал все таким образом, что его учеба приходилась на самые поздние ночные часы. Между двенадцатью и часом ночи он прерывался, открывал дверь, ведущую в сени, как будто там стоял его отец, а затем, вернувшись, рассматривал в зеркале прихожей свой обнаженный пенис. Это несуразное поведение становится понятным при условии, что он вел себя так, как будто ожидая прихода отца в полуночный час, когда являются духи. При его жизни он был, скорее, ленивым студентом, из-за чего отец часто сердился. Теперь, когда он возвращался в качестве духа и заставал его за учебой, это должно было его порадовать. Но от другой части его поведения отец испытывать радость не мог; тем самым он, стало быть, ему противился и, таким образом, в одном непонятном навязчивом действии выражал обе стороны своего отношения к отцу, точно так же, как в более позднем навязчивом действии с камнем на дороге – отношение к любимой даме.
Опираясь на эти и аналогичные проявления, я отважился на следующую конструкцию: ребенком, в шестилетнем возрасте, он совершил какое-то сексуальное прегрешение, связанное с онанизмом, и за это был ощутимо наказан отцом. Это наказание, правда, положило конец онанизму, но, с другой стороны, оставило после себя неизгладимую неприязнь к отцу и навсегда зафиксировало его роль как помехи сексуальному наслаждению. (Ср. аналогичные предположения на одном из первых сеансов.) К моему великому удивлению, пациент сообщил, что о таком происшествии в ранние детские годы ему неоднократно рассказывала мать, и, очевидно, оно не было предано забвению потому, что с ним были связаны весьма странные вещи. Но сам он о нем ничего не помнит. Рассказ же был таков. Когда он еще был очень маленьким – более точную дату можно было установить лишь благодаря совпадению со смертельной болезнью старшей сестры, – он совершил что-то дурное, за что отец его выпорол. И тут карапуз пришел в страшную ярость и еще во время побоев стал поносить отца. Но так как бранных слов он еще не знал, то стал давать ему всякие названия предметов, которые ему приходили на ум: «Ты – лампа! Ты – полотенце! Ты – тарелка!» и т. д. Отец, потрясенный этой необузданной вспышкой ярости, прекратил побои и произнес: «Малыш станет либо великим человеком, либо великим преступником»[42]. Он полагает, что эта сцена произвела неизгладимое впечатление как на него самого, так и на отца. Отец никогда его больше не бил; сам же он выводит некоторые изменения в своем характере из этого переживания. Из страха перед размерами своей ярости отныне он стал малодушным. Впрочем, всю свою жизнь он ужасно боялся побоев и в ужасе и возмущении прятался, если наказывали его брата или сестру.
Новые расспросы матери подтвердили этот рассказ, и, кроме того, были получены сведения, что тогда ему было три или четыре года и что он заслуживал наказания, потому что кого-то укусил. Других подробностей мать уже не помнила; весьма неуверенно она сказала, что человеком, пострадавшим от малыша, возможно, была воспитательница; о сексуальном характере проступка в ее сообщении речь не шла[43].
Отсылая к обсуждению этой детской сцены в сноске, я добавлю, что благодаря ее появлению впервые было поколеблено его нежелание верить в гнев на любимого отца, приобретенный в доисторические времена и позднее ставший латентным. Разве что я ожидал более сильного воздействия, ибо об этом происшествии ему так часто рассказывали, в том числе и отец, что его реальность не подлежала сомнению. Но благодаря способности подминать логику, которая каждый раз крайне поражает нас у очень смышленых больных неврозом навязчивости, он снова и снова выставлял как довод против доказательной силы рассказа, что сам он все же ничего об этом не помнит. Таким образом, убеждение в том, что его отношение к отцу действительно требовало того бессознательного дополнения, ему пришлось обрести только болезненным путем переноса. Вскоре дело дошло до того, что в сновидениях, дневных фантазиях и мыслях он самыми грубыми и грязными ругательствами поносил меня и моих близких, тогда как на уровне сознательного намерения относился ко мне лишь с величайшей почтительностью. Его поведение, когда он рассказывал об этих ругательствах, было поведением отчаявшегося человека. «Как вы можете, господин профессор, допускать, чтобы вас поносил такой мерзкий и приблудный тип, как я? Вы должны спустить меня с лестницы; лучшего я не заслуживаю». При этих словах он обычно вставал с дивана и ходил по комнате, что поначалу объяснял деликатностью: он не может решиться говорить о таких ужасных вещах, удобно вытянувшись на диване. Но вскоре он сам нашел более убедительное объяснение, сказав, что избегает соседства со мной из страха оказаться побитым. Если он оставался сидеть, то вел себя как человек, который в отчаянном страхе хочет защитить себя от чрезмерного насилия; он защищал голову руками, прикрывая лицо ладонями, внезапно вскакивал с места с искаженным от боли лицом и т. д. Он вспомнил, что отец был вспыльчив и в своей горячности порою не знал, как далеко он зайдет. В такой школе страдания он постепенно приобрел недостающее ему убеждение, которое у любого другого, лично к этому непричастного, возникло бы, так сказать, само собой; но теперь также и путь к пониманию представления о крысах был свободен. Отныне на пике лечения стало доступным для воссоздания всех обстоятельств множество фактических сообщений, которые доселе утаивались.
При их изложении я, как уже говорил, буду как можно более кратким и только их подытожу. Первая загадка, очевидно, состояла в том, почему оба высказывания чешского капитана – рассказ о крысах и требование вернуть деньги лейтенанту А. – подействовали на него столь возбуждающе и вызвали столь бурные патологические реакции. Следовало предположить, что здесь имела место «чувствительность комплекса», что теми речами оказались грубо задетыми сверхчувствительные места его бессознательного. Так оно и было; как и во всем, что касалось военных отношений, он бессознательно идентифицировался с отцом, который сам отслужил много лет и часто рассказывал о своей солдатской жизни. И тут случай, который может содействовать симптомообразованию, как и дословный текст – остроте, сделал возможным, что одна небольшая авантюра отца имела важный общий элемент с требованием капитана. Однажды отец (заядлый игрок)[44] проиграл в карты небольшую сумму денег, которой он располагал, будучи унтер-офицером) и оказался бы в бедственном положении, если бы эту сумму ему не одолжил один его товарищ. Оставив военную службу и став зажиточным человеком, он попытался найти пришедшего на помощь товарища, чтобы вернуть ему деньги, но так и не смог нигде его отыскать. Наш пациент не был уверен, удалось ли тому вообще когда-либо вернуть этот долг; ему было неприятно вспоминать об этом грехе молодости отца, ведь его бессознательное было наполнено враждебными упреками, касавшимися характера отца. Слова капитана: «Ты должен вернуть обер-лейтенанту А. 3,80 кроны» – для него прозвучали как намек на тот неуплаченный долг отца.
Но сообщение о том, что девушка, служащая на почте в Ц., сама оплатила посылку, сказав при этом лестные для него слова[45], усилило идентификацию с отцом также и в другом отношении. Теперь он добавил, что в небольшом местечке, где находилась и почта, прелестная дочь трактирщика была очень любезной с элегантным молодым офицером, и поэтому он вознамерился вернуться туда по окончании маневров, чтобы испытать с этой девушкой свои шансы. Но теперь в лице юной почтовой служащей у нее появилась соперница; как и отец в своем супружеском романе, он мог сомневаться, на кого из них ему обратить свою благосклонность по оставлении военной службы. Мы сразу замечаем, что его странная нерешительность, ехать ли ему в Вену или вернуться в местечко, где расположена почта, его постоянные искушения повернуть обратно были не такими уж бессмысленными, какими могли показаться вначале. Для его сознательного мышления притягательность местечка Ц., где находилась почта, объяснялась потребностью с помощью обер-лейтенанта А. исполнить свою клятву. На самом же деле предметом его желания была молодая почтовая служащая, живущая в том же самом местечке, а обер-лейтенант был просто подходящей для нее заменой, поскольку останавливался там же и сам отвечал за армейскую почту. Когда он затем услышал, что в тот день на почте дежурил не обер-лейтенант А., а другой офицер – Б., он и его включил в свою комбинацию, а свои колебания между двумя благосклонно к нему расположенными девушками мог повторить в делириях, связанных с обоими офицерами[46].
При объяснении воздействий, вызванных рассказом капитана о крысах, мы должны придерживаться последовательности анализа. Вначале появилось изобилие ассоциативного материала, но ситуация образования навязчивости понятней от этого пока не стала. Представление о наказании, осуществляемом крысами, возбудило у него разнообразные влечения, пробудило множество воспоминаний, и поэтому за короткий промежуток времени между рассказом капитана и его напоминанием вернуть деньги крысы приобрели ряд символических значений, к которым впоследствии добавлялись все новые. Правда, мое сообщение обо всем этом окажется отнюдь не полным. Наказание крысами прежде всего взбудоражило анальную эротику, игравшую важную роль в его детстве и сохранявшуюся затем многие годы из-за раздражения, которое вызывали глисты. Таким образом, крысы приобрели значение «денег»[47], связь с которыми обнаружилась благодаря ассоциации «взносы» [Raten] и «крысы» [Ratten]. В своих навязчивых делириях он вводил настоящую крысиную валюту; например, когда я ответил ему на вопрос о стоимости одного сеанса лечения, для него, о чем я узнал полгода спустя, это прозвучало: «Столько-то гульденов, столько-то крыс». Постепенно на этот язык он перевел весь комплекс денежных интересов, которые были связаны с отцовским наследством, то есть через этот словесный мостик «взносы – крысы» все представления, относящиеся к этому комплексу, были включены в сферу навязчивостей и подчинены бессознательному. Кроме того, с помощью словесного мостика «заядлый игрок» [Spielratte], откуда можно было получить доступ к карточному проигрышу его отца, это денежное значение крыс опиралось на напоминание капитана вернуть стоимость посылки.

Но крыса была ему также известна как носитель опасных инфекций и поэтому могла использоваться как символ для страха перед сифилитической инфекцией, столь обоснованного в армии, за которым скрывались всякого рода сомнения в образе жизни отца во время военной службы. В другом смысле: носителем сифилитической инфекции был сам пенис, и, таким образом, крыса стала половым членом, на связь с которым она могла претендовать и иначе. Пенис, особенно пенис маленького ребенка, можно прямо описать как червяка, а в рассказе капитана крысы копошились в заднем проходе, словно большие круглые глисты, которые у нашего пациента были в детстве. Стало быть, значение пениса, которое имели крысы, опять-таки основывалось на анальной эротике. Кроме того, крыса – грязное животное, питающееся экскрементами и живущее в водостоках, по которым перемещаются нечистоты[48]. Наверное, излишне указывать, насколько мог расшириться делирий, связанный с крысами, благодаря этому новому значению. Например, «Столько-то крыс – столько-то гульденов» могло послужить меткой характеристикой одного весьма ненавистного ему женского ремесла. С другой стороны, пожалуй, не может быть безразличным, что замена крысы пенисом в рассказе капитана воспроизводила ситуацию сношения per anum[49], которая в отношении к отцу и возлюбленной должна была ему показаться особенно отвратительной. Когда эта ситуация вновь возникла в навязчивой угрозе, оформившейся у него после требования капитана, это, несомненно, напомнило об одном проклятии, употребительном у южных славян, дословный текст которого можно найти в «Anthropophyteia», издаваемой Ф. С. Краусом. Впрочем, весь этот и другой материал вместе с покрывающей мыслью «жениться» [heiraten] оказался включенным в текстуру обсуждения крысиной тематики.
То, что рассказ о наказании крысами всколыхнул у нашего пациента все давно подавленные импульсы себялюбивой и сексуальной жестокости, подтверждается его собственным описанием и его мимикой при пересказе. И все же, несмотря на весь этот богатый материал, значение его навязчивой идеи не удавалось прояснить до тех пор, пока однажды у него не появилась мысль о старухе-крысоловке из «Маленького Эйолфа» Ибсена и не сделала неопровержимым вывод о том, что во многих его навязчивых делириях крысы означали еще и детей[50]. Изучая происхождение этого нового значения, я сразу натолкнулся на самые ранние и самые важные источники. Однажды, придя на могилу отца, он увидел, как по могильному холму прошмыгнуло большое животное, которое он принял за крысу[51]. Он предположил, что она появилась из самой могилы отца и только что поедала его труп. С представлением о крысе неразрывно связано то, что она грызет и кусает острыми зубами[52]; но крысы не могут оставаться злыми, прожорливыми и грязными без наказания – их жестоко преследуют и безжалостно истребляют люди, как он сам не раз с ужасом наблюдал. Ему часто становилось жалко этих несчастных крыс. Но он и сам был таким же мерзким, грязным маленьким негодником, который мог в ярости покусать и которого за это страшно наказывали. Он действительно мог найти свое «полное сходство» с крысой[53]. Судьба, так сказать, предъявила ему в виде рассказа капитана стимульное слово для выявления комплекса, и он не упустил возможности отреагировать на это навязчивой идеей.







