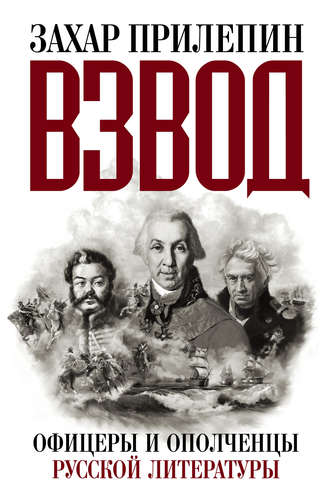
Захар Прилепин
Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Ну, просто римский консул какой-то!
Первой целью Державина было усмирение восставших казахов (киргиз-кайсаков, как их тогда называли), терроризировавших немецкие колонии и теперь вознамерившихся соединиться с Пугачёвым.
В идеале же он рассчитывал на новую встречу с Пугачёвым и реванш.
То, что вокруг Пугачёва собиралось до двадцати тысяч бунтующей черни, Державина не пугало: у Михельсона, разбившего самозванца под Казанью, в отряде было немногим больше тысячи солдат. Впрочем, у Михельсона было вымуштрованные и обстрелянные бойцы, а тут ещё надо было посмотреть.
И посмотрел.
Державин со своей, как он выражался, «армией» атаковал двухтысячное войско бунтующих казахов (свистели стрелы над головою! раздавались крики раненых! грохотало возбуждённое сердце!) и обратил их в бегство.
Казахи потеряли 48 человек убитыми. В плен к Державину попали два молодых вельможи. Трофеи Державин получил более чем убедительные: всякое казахами наворованное добро, скот, но самое главное – казахи держали в плену 811 европейских колонистов и 700 малоросов и русаков. И всех их освободил наш поэт.
«Подайте сюда Пугачёва!» – мог он воскликнуть в те минуты.
Впрочем, к месту бунта прибыл уже с турецкого фронта Александр Суворов со своими молодцами – и совершил несколько карательных рейдов, поражавших всех своей победительной скоростью; вступать с ним в соревнование в случае поручика Державина было всё-таки самонадеянно, хотя у него имелся воинский дар и определённая, не лишняя в этом деле, удачливость.
Зато Державину пришла тогда в голову другая идея.
Гоняться со всей своей разномастной армией за бунтовщиками смысла не было – в очередной раз разбитый под Царицыном Пугачёв ни в какие сражения уже не вступал, а где-то прятался. Куда проще, решил Державин, взять его обманом.
Поэт вернулся к своей уже давшей плоды тактике, замешанной на устрашении и пропаганде. Он отобрал из бывших при нём малыковских крестьян сто человек, а детей их и жён взял в заложники, чтоб мужики, если что, не разбежались. Раздал всей этой сотне по пять рублей и пообещал отблагодарить многократно щедрее в случае удачи. Крестьянам следовало догнать бежавших казахов и пристать к ним под видом людей, желающих перейти к Пугачёву. И, уже попав в расположение бунтовщиков, взять самозванца в плен.
«Дабы придать более отряду важности, – признаётся в своих мрачных делах Державин, – и вперенным в мысли их ужасом отвратить от малейшего покушения в измене, приказал… собраться в полночь в лесу на назначенном месте, где, поставя в их круг священника с Евангелием на налое, привёл к присяге…»
Но что присяга без казни? – и тут же, в присутствии священника, приказал повесить ещё одного малыковского злодея, недавно попавшегося в плен. После чего поэт «дал наставление, чтоб они живого или мёртвого привезли к нему Пугачёва, за что они все единогласно взялись и в том присягали».
Трудно предположить, чтоб кто-то после такого полуночного представления отказался.
Поэт Иван Дмитриев скажет потом, что Державин вешал людей «из поэтического любопытства», а Пушкин его слова процитирует в своей «Истории Пугачёва». Ну, едва ли. То была жуткая война, где сгорали целые города, а к бунту склонялись не тысячи, а сотни тысяч людей; ограбленным, убитым, замученным, казнённым счёт шёл на десятки тысяч, и взаимное остервенение после целого года войны достигло степеней небывалых.
Между прочим, новая затея Державина едва не увенчалась успехом: то ли вдохновлённые, то ли насмерть перепуганные мужики обнаружили пугачёвскую стоянку, взяли в плен его полковника… но самого Емельяна Ивановича какими-то часами раньше повязали свои же казаки, разуверившиеся в удаче.
Державинские разведчики пришли к ещё не потухшему костру, у которого последний раз трапезничал на свободе великий самозванец.
Державину в те дни – с превеликим уважением, как к равному, – писал сам Суворов: «О усердии к службе Ея Императорского величества вашего благородия я уже много известен; тоже и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачёва…»
Суворов направился к Яицкому городку, куда отвезли пленённого Пугачёва. По пути встретился с недобитыми Державиным киргиз-кайсаками, принял бой, потерял адъютанта и нескольких человек убитыми, смял сопротивление – и, сделав ряд стремительных переходов по разбитым дорогам, принял Пугачёва от коменданта городка.
Державину оставалось только одно: первым направить сообщение о пленении самозванца. Курьер его долетел до Павла Потёмкина, а тот уже отписал императрице в Петербург: «…получил я от поручика Державина… наиприятнейшее известие… изверга и злодея Пугачёва на Узенях поймали…»
Державин явился к главнокомандующему Панину, чтоб отчитаться о многообразной своей работе.
Панин спросил: «Видел ли ты Пугачёва, поручик?»
Державин скромно ответил: «Видел, на коне»; не рассказывать же в подробностях, как мчался от него через степь.
Ввели самозванца: в оковах и в засаленном тулупе.
«Лишь пришёл, то и встал перед графом на колени, – описывает Державин ту встречу. – Лицом он был кругловат, волосы и борода окомелком, чёрные, склоченные; росту средняго, глаза большие, чёрные на соловом глазуре, как на бельмах. От роду 35 или 40 лет».
– Здоров ли ты, Емелька? – спросил Панин.
– Ночей не сплю, всё плачу, батюшка, – сказал Пугачёв.
– Надейся на милость императрицы, Емелька, – сказал Панин.
Державин предположил, что эту сценку Панин разыграл для него: ловил ты, поручик, ловил смутьяна – а он вот где, предо мной на коленях стоит.
Ни Державину, ни Суворову наград за бессонные дни и ночи, мытарства и риск от государыни не последовало. Сосчитать даже сложно, сколько раз за эти месяцы могли Державина застрелить, растерзать, удавить, размясничить, – и вот что в итоге.
Не от обиды, но от жуткого переутомления Державин слёг, и три месяца пролежал, борясь сразу со всеми хворями, обрушившимися на него.
Но вынес, выполз, выздоровел.
В январе, 10 числа, Пугачёва казнят на Болотной площади в Москве, но до июля 1775 года Державин будет гасить и вытаптывать остатки пугачёвщины.
Зададимся вопросом: был ли он закоренелым крепостником, и знать не желающим об истинных причинах бунта? Нет, конечно. В те же дни Державин напишет:
Емелька с Каталиной – змей;
Разбойник, распренник, грабитель
И царь, невинных утеснитель, —
Равно вселенной всей злодей.
Имения его – и казанские, и оренбургские – были разорены, а мать едва не погибла: он вполне мог возложить вину за случившееся исключительно на Пугачёва. Но у поэта хватило разума понять, что вина за бунт – общая: и распренников, и утеснителей. Он поднялся над своей личной бедой и уравнял бунтовщика и царя.
В 1776 году выходит книга Державина «Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае 1774 года». Гора Читалагай находилась близ одной из немецких колоний, верстах в ста от Саратова, на левом берегу Волги: места, памятные для Державина.
Пугачёвщины эти стихи напрямую, как правило, не касались, за исключением «Оды на смерть генерал-аншефа Бибикова»:
Воззрев на предстоящих слёзных:
«Не жаль отца, жены и чад:
Воздать любящая заслугам,
Российска матерь призрит их;
Мне жаль отечество оставить!».
Ты рек, и рок сомкнул вздыханья.
«Гиперболизм и грубость» – основные два качества, которые Ходасевич увидел в тех стихах Державина. Именно они и станут характеризовать его последующую поэзию. Ходасевич решил, что эти черты Державин унаследовал из прочтённой им тогда книжки «Разные стихотворения» Фридриха II, короля прусского.
Но разве русский бунт не учит именно этому: гиперболизму и грубости?
В феврале 1777 года Державина переводят с военной службы на статскую с чином коллежского советника. Он получает должность в Сенате и женится на шестнадцатилетней Екатерине Яковлевне Бастидон, дочери бывшего камердинера Петра III португальца Бастидона.
Позади – картёжные приключения, годы солдатской и офицерской службы, война.
В эти годы начинается Державин как огромный поэт: для русской поэзии это серьёзный заступ – ему было за 35, добрая половина русских классиков в эти годы уже подводила итоги…
Но он искал интонацию; он точно понял, что не умеет писать как Ломоносов – безупречно выдерживая строй возвышенной речи, – но своей манеры ещё не придумал.
Надо сказать, что Державину элементарно не хватало образования. Но именно это и пошло, как ни странно, на пользу его стихам.
Державин воспринял поэзию не как пышный и утомительный церемониал – он вёл себя с языком так, будто ему нужно объездить коня. Он привил поэзии некоторую даже вульгарность – потому что формировался не при дворе, а в казармах. Державинская поэзия – мясная, прямолинейная, звучная.
В 1779 году Державин пишет классическое «На смерть князя Мещерского»:
Глагол времён! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовёт меня, зовёт твой стон,
Зовёт – и к гробу приближает.
В этом стихотворении есть строчка «скользим мы бездны на краю» (от неё рукой подать до таких, казалось бы, далёких вещей, как песня «Кони привередливые» или «Над пропастью во ржи», не говоря уже о пушкинском «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю»). Сложилась бы эта строчка без той погони под Саратовом, когда Державин уносил голову от пугачёвцев?
И не в продолжение ли темы Емельки и Каталины сказано там:
Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:
Монарх и узник – снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает.
Но до удачи, определившей судьбу Державина, оставалось ещё три года. В 1782-м была им написана «Фелица», посвящённая государыне Екатерине II:
Богоподобная царевна
Киргиз – Кайсацкия орды!
И хотя державинская «Фелица» апеллирует к сказке, сочинённой Екатериной, где киевский царевич попадает к казахскому хану в плен, явление казахов (киргиз-кайсаков) во второй же строке имеет и биографический смысл: ведь именно над их воинством Державин одержал свою самую серьёзную победу.
Так что, вознося оду императрице, он хоть бы и для собственного удовлетворения, но напоминал, что часть орды была приведена в подданство автором оды.
Стихотворение это даже по нынешним временам слишком вольно по отношению к царствующему лицу:
Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
– пишет Державин, называвший себя, напомним, «мурзой» (к тому времени он получил уже чин статского советника и пешей ходьбой себя не утруждал).
В случае с «мурзой» венценосная его читательница могла понять это определение как обобщающее всю знать. Доказывая, что сравнение происходит исключительно с ним самим, Державин завершает следующую строфу очередным сомнительным комплиментом:
Подобно в карты не играешь,
Как я от утра до утра.
И далее:
А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью.
А что ты ещё делаешь, Гаврила Романович? Может, зря тебе дали статского советника, компенсации за разграбленные пугачёвцами деревни и 300 душ в Белоруссии?
Не стесняясь, он продолжает явку с повинной: «шампанским вафли запиваю» – раз, «на бархатном диване лежа, младой девицы чувства нежа» – два, «за Библией, зевая, сплю» – три; ну и так далее.
В «Объяснениях на сочинения Державина», данных автором собственноручно, он напишет, что под «мурзой», обожающим наряжаться, имелся в виду Потёмкин, следом шёл неутомимый охотник Панин, забавлявшийся, согласно оде, «лаем псов», а за Библией спал не сам Державин, а князь Вяземский… Но мы всё равно понимаем, что в первую очередь автор в виду имел себя и тем самым хитро ставил собственную персону вровень не только с первыми лицами государства, но и с императрицей: потому что, даже возвеличивая Екатерину, – Державин её очеловечивал; спустя несколько лет он напишет ещё прямей и жёстче:
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
Ода «Фелица» сначала разошлась в списках, затем вышла в журнальном виде, и, наконец, попала в руки императрице.
Она прочитала – и разрыдалась.
Из разногласия согласье
И из страстей свирепых счастье
Ты можешь только созидать.
Так кормщик, через понт плывущий,
Ловя под парус ветр ревущий,
Умеет судном управлять.
Державин догадался, что лучшие комплименты в адрес женщины начинаются с подробного и вдохновенного самоуничижения.
Дальше начались чудеса.
Обедал как-то Державин у того самого Вяземского, что имел обыкновение дремать за чтением Библии, и тут приходит посылка, где начертано: «От Киргизской царевны к мурзе».
Сердце так и упало – или, верней, вознеслось: Гаврила Романович всё понял в первый же миг.
Вскрыл: там золотая табакерка, усыпанная бриллиантами, а в ней – 500 червонцев. Всё вместе – на три тысячи рублей! (Поменьше, чем Пугачёв предлагал за голову Державина; но самозванец хотел голову на один раз, а тут история обещала разнообразные продолжения.)
Через несколько месяцев Державин получит чин действительного статского советника.
Не почивая на лаврах, он продолжает доблестную службу в Сенате: к примеру, пересчитав табели о предполагаемых доходах на грядущий 1784 год, он разыскал затерявшиеся по разным статьям… 8 миллионов рублей.
Однако, чтоб люди, уже тогда имевшие привычку погреться близ казны, не сжили его со света, Державин в 1784 году вышел в отставку.
В том же году он был назначен первым гражданским губернатором только что образованной Олонецкой губернии, а через год – губернатором Тамбовской.
Управленец Державин был достойный: без сна и покоя, маниакально честный, принимающий посетителей с утра до вечера. Привлекал меценатов и сам меценатствовал, открыл в Тамбове четырёхклассное училище, выписал учителей из Петербурга и каждому выделил по квартире. Следом появились двухклассные училища в каждом крупном городке губернии: Елатьме, Козлове, Лебедяни, Липецке, Моршанске, Спасске, Темникове… Создал детский хор и, умевший петь, некоторое время самолично обучал певческий класс вокалу.
В 1787 году за труды праведные был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени.
Но при всех своих достоинствах, Державин был ещё и амбициозен, и неуживчив, и своенравен; в итоге у него начался конфликт с местной знатью.
Дошло до того, что Державина принимала императрица, заинтересовавшаяся, как этот мурза умудряется ругаться буквально со всеми, с кем сталкивает его государственная работа. Державин отвечал ей бойко и уверенно, в своей правоте убеждённый и виноватыми видевший всех остальных.
Екатерина, впрочем, рассудила иначе: «Надобно искать причину в себе самом».
Державина с губернаторского поста убрали, но спустя какое-то время пожалели об этом. «Стали говорить, что прежний губернатор был горяч и крут, но честнейший человек и умел веселить общество», – писал современник.
Два года Державин ждал следующего назначения. Но поэзии это шло на пользу, тем более, что воспевать было что.
В августе 1787 года началась очередная Русско-турецкая война: на кону оказались Дунай, Кубань, Кавказ, присоединённый в 1783 году Крым.
Турция осадила российскую крепость Очаков, где развернулись страшные бои с участием давнего знакомого Гаврилы Державина – Александра Суворова.
Державин пишет «Осень во время осады Очакова» (1788):
Огонь, в волнах не угасимый,
Очаковские стены жрёт,
Пред ними росс непобедимый
И в мраз зелёны лавры жнёт;
Седые бури презирает,
На льды, на рвы, на гром летит,
В водах и в пламе помышляет:
Или умрёт, иль победит.
Жрёт, росс, мраз, рвы: пр-р-родирает!
В стихотворении чередуются рифмованные и нерифмованные строфы, и это создаёт особое ощущение: теряя рифму, слух словно перенастраивается; потом снова находит опору в рифме, и следом опять теряет; Державин нарочно бередит читателя:
Мужайтесь, росски Ахиллесы,
Богини северной сыны!
Хотя вы в Стикс не погружались,
Но вы бессмертны по делам.
На вас всех мысль, на вас всех взоры,
Дерзайте ваших вслед отцов!
Нарочитые грамматические перестановки создают неожиданно торжественный и убедительный эффект. Державинский стих обладает сразу двумя противоположными свойствами: он настойчиво увлекает читателя – и одновременно своей семантической алогичностью принуждает останавливаться.
Это поэтические горки: бешеный разгон – и тут же, вдруг, с лязгом полозьев, торможение.
Времени, в котором он жил, Державин был адекватен как никто иной.
В самый разгар Русско-турецкой войны, летом 1788-го, Швеция объявила войну России, решив захватить Петербург и вернуть себе российские владения на берегах Балтийского моря (Англия и Пруссия тайно поддерживали Швецию; ну и Турцию тоже – буквально навязывая России переговоры с ней). Но двухлетняя война не принесла Швеции ничего: Россия устояла, воюя на два фронта.
Если губернаторская деятельность Державина была предметом споров и даже тяжб с соперниками, то поэтический дар Державина стал вскоре неоспоримым: он был признан при дворе и по праву занял место первого поэта империи. И какой империи! – находившейся в зените своего могущества.
Вот как видел Державин российскую географию в стихотворении «Изображение Фелицы» (1789):
Престол её на Скандинавских,
Камчатских и златых горах,
От стран Таймурских до Кубанских
Поставь на сорок двух столпах;
Как восемь бы зерцал стояли
Её великие моря;
С полнеба звёзды освещали,
Вокруг – багряная заря.
Екатерина II возвращает благосклонность Державину: он получает должность кабинет-секретаря императрицы, и, всем известный своим упрямством и почти невозможной честностью, ведёт сложнейшие финансовые расследования по делам и особам, приближённым ко двору.
«Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным проходил он в её причудливые покои», – метко опишет Державина Ходасевич.
Нити финансовых махинаций приводят так близко к царской фамилии, что державинские доклады часто превращаются в перебранку с государыней. Однажды он так разгорячился, что схватил её за край одежды, и Екатерина приказала Державина вывести – «а то руки распускает». В другой раз она, взбешённая, прокричала: «Пошёл вон!» на него; но после всё равно вернула.
В 1790 году Державин упрочит своё положение, создав ещё один милитаристский шедевр – «На взятие Измаила» (превращённый немецкими и французскими инженерами в неприступную крепость с 35-тысячным гарнизоном, Измаил был взят 31-тысячной российской армией; потеря Измаила вызвала в Европе шок и растерянность – было очевидно, что столь сильной армии нет ни у кого):
Везувий пламя изрыгает,
Столп огненный во тьме стоит,
Багрово зарево зияет,
Дым чёрный клубом вверх летит;
Краснеет понт, ревёт гром ярый,
Ударам вслед звучат удары;
Дрожит земля, дождь искр течет;
Клокочут реки рдяной лавы, —
О росс! таков твой образ славы,
Что зрел под Измаилом свет!
Росс, согласно Державину, «…в Европе грады брал, тряс троны, / Свергал царей, давал короны / Могущею своей рукой».
О кровь славян! Сын предков славных!
Несокрушаемый колосс!
Кому в величестве нет равных,
Возросший на полсвете росс!
Державин натурально упивается величием Отечества. Геополитические планы росса, по Державину, простираются дальше, чем на «полсвета»; тем более, что полсвета нами и так уже покорены:
Ничто – коль росс рождён судьбою
От варварских хранить вас уз,
Темиров попирать ногою,
Блюсть ваших от Омаров муз,
Отмстить крестовые походы,
Очистить иордански воды,
Священный гроб освободить,
Афинам возвратить Афину,
Град Константинов Константину
И мир Афету водворить.
Под Омаром имелся в виду зять Магомета, который, завоевав Александрию, сжёг библиотеку. Афет же – сын Ноя, которому досталась Европа. То есть, по сути, Державин определял судьбу России как хранительницы Европы; и, пожалуй, был недалёк от истины. Екатерина, по воспоминаниям Державина, была настроена вполне радикально: «Ежели б я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена б была Российскому скипетру». Она строила Третий Рим, и внука своего назвала Константином не случайно – он должен был стать наместником отвоёванного у турок Константинополя.
Стихотворение «На взятие Измаила» тогда обрело оглушительную известность – выпущенное отдельной книжкой, тут же разошлось тиражом в три тысячи экземпляров: огромные цифры по тем временам; Екатерина вновь одарила мурзу дорогими подарками.
Григорий Потёмкин в своём дворце, который позже получит название Таврического, устроил бал в честь победы; в подготовке торжества участвовал Державин, написавший тексты для исполнявшихся хоров.
Праздник удался; присутствовала императрица, восьмилетний Васенька Жуковский был на всю жизнь потрясен звучавшими тогда строфами Державина.
Полные яств столы, описываемые Державиным, – и те будто бы отражают огромность и победительность России.
Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по них и злато, и сребро;
Восточный, западный, седые океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы сзтепи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принёс кошницу Тавр,
– это империя, это её размах.
Державин не столько описывает раблезианские пиршества, сколько сама Россия у него выглядит как скатерть-самобранка.
«Какая перемена политического нашего состояния! – писал о свершившейся победе Державин. – Давно ли Украйна и Понизовые места подвержены были непрестанным набегам хищных орд? Давно ли? – О! Коль приятно напоминание минувших напастей, когда они прошли, как страшный сон. Теперь мы наслаждаемся в пресветлых торжествах благоденствием».
Торопиться, впрочем, не стоило. Напасти вовсе не заканчивались: английские корабли готовились к походу на Кронштадт, к западной границе России выдвинулась прусская армия, – ведущие европейские игроки не желали смириться с падением Измаила; и самый рост, как на дрожжах, России их нервировал и пугал.
Ещё один державинский шедевр – «Заздравный орёл» – написан в безусловно востребованном временем жанре, на мотив солдатских песен:
О! исполать, ребяты,
Вам, русские солдаты,
Что вы неустрашимы,
Никем не победимы:
За здравье ваше пьём.
Орёл бросает взоры
На льва и на луну,
Стокгольмы и Босфоры
Все бьют челом ему.
Орёл – это, естественно, Россия, её герб. Лев и луна – соответственно, гербы Швеции и Турции, многовековых и на тот момент главных врагов России, с которыми только что завершились очередные войны.
С 1791-го по 1794-й Державин работает над огромным стихотворением «Водопад», где вновь возникает грохочущее, как водопад, бытие: всё, казалось бы, течёт, всё вспенивается и пропадает; но лишь в свершениях великих, ратных Державин находит смысл и надежду.
«Водопад» – своего рода надгробная песнь главнокомандующему русской армией на юге в минувшую Русско-турецкую, фавориту матушки государыни, фельдмаршалу Григорию Потёмкину, скоропостижно скончавшемуся в октябре 1791-го:
Не ты ль, который орды сильны
Соседей хищных истребил,
Пространны области пустынны
Во грады, в нивы обратил,
Покрыл понт Чёрный кораблями,
Потряс среду земли громами?
Не ты ль, который знал избрать
Достойный подвиг росской силе,
Стихии самые попрать
В Очакове и в Измаиле
И твёрдой дерзостью такой
Быть дивом храбрости самой?
Се ты, отважнейший из смертных!
Парящий замыслами ум!
Не шёл ты средь путей известных,
Но проложил их сам – и шум
Оставил по себе в потомки;
Се ты, о чудный вождь Потёмкин!
Известен анекдот, когда ненавидевший фаворита своей матери император Павел I воскликнул: «О, как нам поправить зло, нанесённое Потёмкиным России?» – на что получил дерзкий ответ: «Нет ничего проще: отдайте туркам Крым, Новороссию и берег Чёрного моря».
Водопад, давший название стихотворению, Державин наблюдал в Олонецкой губернии. И от этого водопада он словно бы прочерчивает линию к чудесам и красотам отвоёванных черноморских побережий, скрепляя края огромной державы.
Но в ясный день, средь светлой влаги,
Как ходят рыбы в небесах
И вьются полосаты флаги,
Наш флот на вздутых парусах
Вдали белеет на лиманах,
Какое чувство в россиянах?
Восторг, восторг – они, а страх
И ужас турки ощущают;
Им мох и терны во очах,
Нам лавр и розы расцветают
На мавзолеях у вождей,
Властителей земель, морей.
Екатерина II раздумывала, не взять ли Державина в секретари по военной части: было очевидно, что бывший боевой офицер, блистательный поэт и въедливый сановник проживает каждую военную компанию, ведущуюся Россией, как личное событие, досконально изучая каждую сводку с места боёв и глубоко понимая европейские реалии.
Год 1794-й дал ему очередные поводы и для печали, и для восхищений: в Польше началось антироссийское восстание.
В Краков прибыл Тадеуш Костюшко – легендарный польский генерал, воевавший за независимость американских колоний в войсках Джорджа Вашингтона. 6 апреля взбунтовалась
Варшава, глава российских войск барон Игельстром едва спасся, вырвавшись из города с пятью сотнями людей.
«Войска наши, в Варшаве пребывающие, почти все перебиты, в плен захвачены и весьма малое количество оных осталось, – докладывали Екатерине. – Вся канцелярия барона Осипа Андреевича Игельстрома взята и до миллиона суммы захвачено. Три племянника его убиты, а сам он неизвестно куды девался».
За ночь в Варшаве было убито четыре тысячи российских военных. Вскоре вспыхнула вся Польша, в том числе – поднялись польские части, взятые на русскую службу. Требования были просты – вернуть территории, потерянные в результате первого и второго разделов Польши, 1772 и 1793 года: Правобережную Украину, большую часть Белоруссии, часть Литвы – то есть, по большей части, когда-то ранее потерянные Россией собственные земли.
Стремительным рейдом явившийся к театру войны корпус Суворова в первые же пять дней выиграл четыре сражения подряд у превосходящих количеством и отлично мотивированных поляков, взял Брест, а затем, в жесточайшем бою, предместье Варшавы. Вскоре Суворову пришло предложение о сдаче города.
Уже в те дни Державин напишет о Суворове:
Пошёл – и где тристаты злобы?
Чему коснулся, всё сразил!
Поля и грады стали гробы;
Шагнул – и царство покорил!
Суворов, более чем польщённый, отвечает Державину письмом, и тоже стихотворным:
…О вы, Варшавские калифы!
Какую смерть должны приять!
Пред кем дерзнули быть строптивы?
Не должно ль мстить вам и карать?
– но сам себя тут же оспаривает: «Карать оставим Провиденью». И, обращаясь к Державину уже прозой, добавляет: «Гомеры, Мароны, Оссианы и все доселе славящиеся витии умолкнут пред вами».
Но с этим стихотворением Державина случился казус – несказанно обеспокоенную уже случившейся к тому времени французской революцией Екатерину возмутила в державинской оде строчка «трон под тобой, корона у ног». И хотя обращена она была к Суворову, а трон имелся в виду польский, всё это показалось императрице некоторым даже святотатством. В общем, отпечатанная отдельной книжкой ода осталась во дворце и к читателям не попала.
Зато Державин и Суворов вдруг стали приятелями.
Когда Александр Васильевич вернулся в Петербург во всём блеске своей славы, к нему едва ли не очереди выстраивались на визит, однако полководец разнообразными и весьма эксцентричными способами встреч со знатью избегал. Зато Державина, в первый же ознакомительный заезд, продержал до вечера, не без весёлой нарочитости отлынивая от встреч со всё новыми и новыми визитёрами.
Державин узнал тогда иного Суворова: аскетичного, женщин не державшего даже в прислужницах, знающего семь языков, ценящего словесность и, в частности, поэзию, из яств предпочитавшего щи и редьку, религиозного, соблюдавшего все посты, не исключая среды и пятницы, всерьёз собиравшегося уйти в монастырь – в Нилову Новгородскую пустынь. Отсюда державинские стихи:
Суворов! страсти кто смирить свои решился,
Легко тому страны и царства покорить!
В 1795 году Державин напишет стихотворение «Флот» – в связи с отбытием российской эскадры:
Водим Екатерины духом,
Побед и славы громкий сын,
Ступай ещё и землю слухом
Наполнь, о росский исполин!
Ты смело Сциллы и Харибды
И свет весь прежде проходил:
То днесь препятств какие виды?
И кто тебе их положил?
Ступай, – и стань средь океана,
И брось твоих гортаней гром:
Европа, злобой обуянна,
И гидр лилейных бледный сонм
От гроз твоих да потрясётся…
В данном случае под Европой имелась в виду Франция (в её гербе – изображения лилий), но Державин ни малейших иллюзий и по поводу всей остальной Европы не питал, уже тогда догадываясь: никаких друзей у России нет. Но нет и никакой силы в мире, что может остановить Россию.
Следующий год – ода «На покорение Дербента», обращённая к Валериану Зубову, получившему в управление армию в 25 лет:
Екатеринины лучи
Умножил ты победой новой;
Славнее тем венец лавровой,
Что взял Петровы ты ключи.
(Тогда ходила легенда, что ключи от города передал Зубову тот же человек, что вручал их 74 года назад Петру Великому; сомнительно, однако все верили.)
Годом позже Державин создаёт оду «На возвращение графа Зубова из Персии»:
О юный вождь! Сверша походы,
Прошёл ты с воинством Кавказ.
<…>
По духу войск, тобой веденных,
По младости твоей, красе,
По быстром персов покореньи
В тебе я Александра чтил!
Валериан Зубов, что бы там ни говорили, таких од стоил – место своё в истории он заработал вовсе не тем, что брат его Платон был очередным фаворитом императрицы. Героический участник штурма Измаила и двух русско-польских войн, потерявший ногу от взрыва ядра, Валериан Зубов был высоко почитаем Суворовым и обожаем в армии. Персидский поход Зубов подготовил и провёл безупречно.
Россия воспроизводила греческую и римскую историю не только на уровне метафорическом, но и в прямом смысле: русские шли по следам Македонского и были столь же неудержимы.
Державин тем временем рос в своих постах: получив должность президента Коммерц-коллегии, он продолжал заниматься, в числе прочего, расследованиями различных махинаций – императрица называла его «следователем жестокосердным»; третью свою награду, к слову сказать, Державин получит от императрицы не за стихи, а за разработанные им тарифы.
Правда, уже после её смерти: 6 ноября 1796 года императрицу нежданно хватил удар.
При восшедшем на престол Павле I положение Державина не пошатнётся, и даже напротив: за несколько лет новый император успеет наградить сановника и поэта больше, чем его матушка за два десятилетия.
Державин получает место государственного казначея, опровергая миф, что поэты не умеют считать деньги.
Со специальными поручениями Державин несколько раз посещал Белоруссию, где обнищавшие вконец крестьяне находились в неподъёмных долгах у местных торговцев и хозяев винокурен. Там он открыл несколько лечебниц и закупил на собственные деньги хлеба для жителей двух самых бедных имений. В Витебске Державин написал «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, об их преобразовании», где в числе прочего предложил уничтожить кагалы.
Ну и, конечно же, за всей этой работой нисколько не ослабевало пристальное державинское внимание ко всем воинским удачам россов.







