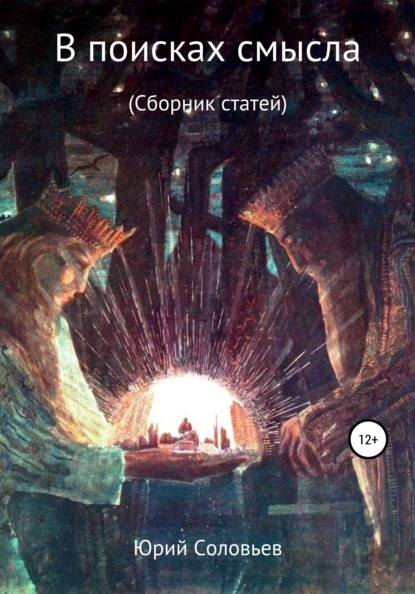Полная версия
Полная версияПолная версия:
Юрий Юрьевич Соловьев Абсолют (Опыт моделирования)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Юрий Соловьев
Абсолют (Опыт моделирования)
Посвящаю памяти моей мамы.
Автор.
Самоуважение интеллекта подразумевает стремление
к окончательному распутыванию любого
хитросплетения мысли.
А.Н. Уайтхед.
Благо тому, кто понял эту проповедь.
Если бы здесь не было ни одного человека,
я должен был бы сказать ее этой церковной кружке.
Мейстер Экхарт.
Предисловие
Однажды я читал «Истоки и цель истории» Карла Ясперса, именно то место, где он высказывает сожаление по поводу отсутствия в современной исторической науке интереса к проблеме происхождения человека. По мнению Ясперса, отказ от попыток понять, что такое человек, откуда пришел и каково его предназначение, обусловлен недоступностью необходимой информации. К моменту, когда пять-шесть тысяч лет назад человек только начинал осознавать самого себя, у него уже были и развитая речь, и социальное общество, и письменность. Но их зарождение уходит своими корнями в такие глубины времени, которые находятся далеко за пределами человеческой памяти.
«Едва мы только задаем себе вопрос, – пишет Ясперс, – что мы, люди, собственно, такое, и пытаемся найти ответ в познании того, откуда мы пришли, мы сразу же обращаемся к доистории, стремясь проникнуть в ее глубины. Тьма этих глубин обладает притягательной силой, мы с полным основанием устремляемся к ним, но нас всегда ждет разочарование, уготованное невозможностью их познать… Необозримые дали времени, когда человек уже существовал, в основе своей остаются для нас тайной. Это время молчания истории» [стр. 62].
Между тем, – считает Ясперс, и с ним нельзя не согласиться, – «ясное представление о становлении человека… означает также ясное представление о сущности человеческого бытия… Если бы мы могли проникнуть в доисторию, нашему пониманию стала бы доступна субстанциальная основа человеческой природы, поскольку мы увидели бы ее становление, условия и ситуации, которые создали человека таким, как он есть». Поэтому «перед историческим сознанием постоянно стоит великая проблема фундаментальной основы человека, существующего в доисторическую эпоху» [стр. 57].
Ясперс писал это в 1949 году, однако с тех пор мало что изменилось. Ни костные останки, обнаруженные в разных местах планеты, ни каменные орудия, по которым мы пытаемся определить этапы становления человека как вида, так ничего и не сказали нам о причинах возникновения членораздельной речи или социального общества. А ведь определение причины их возникновения и есть главная задача. Человек – единственное в природе существо, которое владеет этими навыками. Поэтому ее решение позволило бы открыть тот сущностный признак, который отличает человека от животных. Значит, чтобы понять, что такое человек, откуда пришел и каково его предназначение, следует прежде всего выяснить, какая необходимость привела к возникновению у обезьяны вида homo sapiens этих культурных феноменов. И здесь, конечно, нужен какой-то совсем иной подход.
И я подумал, а так ли уж не решаема эта проблема? Что если для ее решения применить метод, в деталях описанный в детективных романах? Например, тот, который позволил герою новеллы Эдгара По «Тайна Марии Роже» С.–Огюсту Дюпену, буквально не выходя из своего кабинета, чисто аналитически раскрыть преступление, которое не смогла раскрыть полиция, имея неограниченный доступ к информации. И это вовсе не шутка. В рассказе описывался реальный случай убийства в окрестностях Нью-Йорка Марии Сесилии Роджерс, в раскрытии которого полиция оказалась бессильна. И когда спустя много лет обстоятельства преступления стали известны, оказалось, что они полностью совпадают с описанными в новелле. То есть преступление, не выходя из своего кабинета, раскрыл сам Эдгар По.
Метод тоже хорошо известен. Например, его превосходно сформулировал герой романа Умберто Эко «Имя розы» многомудрый Вильгельм Баскервильский в разговоре со своим юным учеником Адсоном: «Разгадать тайну, – сказал он, – это не то же самое, что дедуцировать из первооснований. Это также не все равно, что собирать множество частных данных и выводить из них универсальные законы. Разгадать тайну, чаще всего означает иметь в своем распоряжении не более одного, или двух, или трех частных данных, не обладающих, с внешней точки зрения, никаким сходством, и пытаться вообразить, не могут ли все эти случаи представлять собой проявления некоего универсального закона, который лично тебе пока не известен и вообще неизвестно, был ли он когда-нибудь выведен» [стр. 256].
В нашем случае этими частными данными могут быть, с одной стороны, явление всемирного тяготения, а с другой – такие сугубо человеческие феномены, как память, членораздельная речь, социальная организация общества и мораль. С внешней точки зрения, эти явления не обладают никаким сходством. Но если нам удастся установить между ними связь, тогда мы сможем понять, какой должна быть вселенная, чтобы в ней мог появиться человек.
Разумеется, такая связь может быть установлена только в случае, если в мире существует единство. Поэтому вначале нам надо понять, является ли мир единым.
О единстве мира
1
С древности вопрос единства мира решался в направлении поиска единой субстанции, которая лежит в его основании. Для Фалеса такой субстанцией была вода, для Анаксимена – воздух, для Гераклита – огонь, а для Демокрита – атомы. В настоящее время в заточенной на материализм науке господствует мнение, что в основе мироздания находится материя. Первоначально под материей понимали собственно вещество –то есть то, что имеет массу, протяженность и локализацию в пространстве. Считалось, что материальность мира и есть главный признак его единства. Однако осознание глубокого различия между явлениями материального и духовного порядка побудило Декарта предположить существование двух субстанций: субстанции мыслящей и субстанции протяженной, или телесной. А Лейбниц и вовсе отказался от понятия субстанции и представил мир в виде совокупности организмов, которые он назвал монадами. Так в концепции единства мира через единство субстанции стали возникать сомнения.
Правда, для их преодоления была придумана формула, согласно которой материя – это просто объективная реальность, а все физические, химические, биологические и социальные явления – суть формы ее движения. Но это сугубо догматическое, бездоказательное утверждение делало само понятие материи полностью неопределенным и превращало его в чистую абстракцию, не имеющую с реальностью ничего общего. Что и было в полной мере подтверждено в ХХ веке, когда в связи с развитием квантовой физики стало ясно, что материя в ее традиционном понимании, как твердая, неуничтожимая, телесная и протяженная, не существует, а мир покоится на пустоте1. Таким образом, понятие субстанции оказалось слишком условным, чтобы на его основании можно было делать выводы о единстве мира.
На мой взгляд, проблему единства мира нужно рассматривать совсем с другой стороны. Известно, что во вселенной каждое явление связано с другими явлениями причинно-следственными связями. Но устанавливать эти связи мы можем только между явлениями сходного порядка, в то время как между явлениями разнородными мы связей не видим. Так, законы строения вещества не имеют ничего общего с законами происхождения жизни, а последние никак не связаны с законами, установленными в области социологии или лингвистики. Означает ли это, что все явления в мире действительно развиваются по своим, только им свойственным внутренним законам, или же их разделение искусственно и присутствует только в наших головах?
Я думаю, что мир можно считать единым только в том случае, если будет найден некий единый для него базовый принцип. Своего рода механизм, при помощи которого осуществляется управление всеми процессами во вселенной. Если такой принцип есть, все происходящие во вселенной процессы будут ему подчинены и тогда связь между ними существует. Если же такого принципа нет, тогда мир состоит из совокупности автономных, не связанных друг с другом замкнутых систем. Поэтому, чтобы определить, связаны ли между собой разнородные явления, необходимо отыскать этот единый принцип и на его основе построить жизнеспособную модель вселенной.
Правда, здесь следует отдавать себе отчет, что для решения этой задачи нам потребуется отступить от некоторых принятых в науке догм. Во-первых, введение понятия единого базового принципа полностью меняет отношение причины и следствия: причиной любого явления становится не предшествующее ему другое явление, как это принято в науке исповедующей метод причинно-следственных связей, а именно единый базовый принцип. И, во-вторых, признание единого базового принципа автоматически означает признание того, что мы называем Абсолютом. Ведь если все явления во вселенной имеют одну причину, то должен существовать и некий единый центр, откуда эта причина воздействует. Причем центр этот может быть по отношению к вселенной только внешним2, так как должен обеспечивать энергией тот самый единый базовый принцип, который ее и формирует. Конечно, для нашей материалистической науки, которая еще со времен Лапласа «в гипотезе Бога не нуждается», такой подход не приемлем.
А вот для философии ничего предосудительного в нем нет. Например, в неоплатонизме, в качестве Абсолютного начала, объявляется некое идеальное Единое, а базовым принципом в нем является так называемая эманация, то есть истечение из Единого божественных энергий, в результате чего образуется материальный мир. Но в неоплатонизме этот механизм придуман исключительно для того, чтобы объяснить наличие в мире зла (недаром эта замечательная концепция была приспособлена Августином Блаженным для теоретического обоснования христианства). Наша же задача куда более конкретна: нам надо найти связь между явлением всемирного тяготения и происхождением человека. Но если при этом полученная нами картина мира окажется цельной и лишенной внутренних противоречий, то существование Абсолютного начала также можно будет считать доказанным фактом.
А чтобы наш замысел можно было реально осуществить, мы должны выбрать такой базовый принцип, чтобы он отвечал двум главным требованиям. Во-первых, он должен иметь всеобщий характер, то есть быть системообразующим во всех явлениях жизни. И, во-вторых, должен быть достаточно конкретным, чтобы на его основе можно было построить конкретный механизм. Поэтому принцип этот не может быть ни религиозным, ни научным. Религия базируется на принципе божественного присутствия, который хоть и отвечает требованию всеобщности, но не является конкретным. Научные принципы, напротив, достаточно конкретны, но они в каждой науке свои и значит, не отвечают требованию всеобщности. А вот в философии такой принцип есть. Это закон единства и борьбы противоположностей. С одной стороны, ему должна быть подчинена любая научная теория, которая становится, таким образом, частным случаем этого закона. А с другой – он сам создает механизм образования явлений, состоящий из тезиса, антитезиса и синтеза. Этот принцип мы и выберем для решения нашей задачи.
2
О том, что мир состоит из противоположностей, было известно с глубокой древности. Еще Гераклит писал, что «враждебное находится в согласии с собой, как перевернутое соединение лука и лиры» [51 DK]. Это и есть первая формулировка диалектического закона единства и борьбы противоположностей.
Суть этого закона заключается в том, что любое явление может существовать только в виде единства двух противоположных друг другу начал: магнит существует как единство полюсов – положительного и отрицательного. Атом существует как единство процессов притяжения и отталкивания. Вращение существует как единство сил центробежной и центростремительной. Сам мир вокруг нас включает в себя единство востока и запада, севера и юга, дня и ночи, жизни и смерти, добра и зла. То есть, с одной стороны, без любого из этих начал целостность существовать не могла бы. Но, с другой, чтобы каждое из начал не было поглощено другим началом, оно должно находиться с этим началом в состоянии непрерывной борьбы3.
Обычно закон этот воспринимается как данность, без попытки осмыслить сам механизм его действия: дескать, так устроен мир, и точка. Но если попытаться понять, как могут совмещаться в одном явлении две противоположные, несовместимые друг с другом тенденции, нельзя не заметить, что здесь как бы действуют две противоположно направленные силы: одна – сила притяжения, стремящаяся объединить два начала в единое целое, а другая – сила отталкивания, не позволяющая произойти этому объединению.
На мой взгляд, примером такой ситуации может служить обыкновенная горящая в темноте лампочка. Свет ее как бы отталкивает сгустившуюся вокруг нее тьму, а тьма, сжимая освещенное пространство, оказывает свету сопротивление. Есть здесь и два противоположных начала (свет и тьма), и их единство (оба они могут существовать только по контрасту друг с другом), и их борьба (каждый из них стремится преодолеть другого). То есть здесь мы наблюдаем, как некая сила (в данном случае свет), внедряясь в некую среду (тьма), вызывает ее сопротивление. Можно предположить, что внедрение такой силы в некую среду и есть тот механизм, которому мы обязаны совмещением в одном явлении двух противоположных начал.
Я думаю, смысл этого механизма заключается в том, что с его помощью происходит наполнение нашего мира энергией. Как известно, в природе действует незыблемый принцип, известный как второе начало термодинамики. Согласно сформулированному Клаузиусом его классическому определению, теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более нагретому. Это означает, что все процессы в мире могут протекать только в одном направлении – от более нагретого тела к менее нагретому. И если одно из них постоянно не подогревать, постепенно температура обоих выравнивается и процесс передачи тепла прекращается. Иными словами, чтобы в любой замкнутой системе мог протекать некий упорядоченный процесс (например, жизнь), эта система должна постоянно получать дополнительную энергию из вне. В противном случае ее ждет остывание и смерть. По-видимому, сила отталкивания и есть та, поступающая из вне энергия, которая «подогревает» протекающие во Вселенной процессы. Разумеется, проявляет она себя в разных процессах по-разному4.
3
Попробуем установить теперь сам принцип действия этой силы. Условимся, что действует она из некой точки и распространяется во всех направлениях одинаково5. Точка, из которой действует сила, является обычной геометрической точкой, которая не имеет размеров и потому не содержит в себе ничего6.
Но если до начала воздействия точка эта была полностью нейтральна, то в первый же момент воздействия характер ее радикально меняется. В ней происходит как бы акт изъятия, вследствие чего точка начнет содержать уже меньше, чем ничего. Теперь она прекращает быть нейтральной, у нее появляется тенденция. Тенденция эта обозначает себя стремлением притянуть изъятое. В свою очередь, изъятое тоже получает свойство стремиться. Но в отличие от исходной точки, которая стремится притянуть, изъятое стремится притянуться, упасть, вернуться в состояние своего отсутствия7. А поскольку упасть изъятое не может, так как сила отталкивания производит его постоянный подпор, тенденция стремления изъятого к исходной точке проявляет себя как вес, тяжесть, масса. То есть возникает напряжение, которое обладает тяжестью и массой. Это напряжение и есть материя8.
Заметим, что данная версия происхождения материи наглядно демонстрирует смысл известной эйнштейновской формулы Е=MC2, открывшей для нас факт тождества массы и энергии. Здесь масса – это не что иное, как чистая энергия, приложенная к точке и создающая в ней напряжение9. Причем, чем больше приложенная к точке энергия, тем выше напряжение, тем большей представляется и масса. И, наоборот, в случае, если бы воздействие на точку энергии прекратилось, произошел бы ее возврат в исконное для нее состояние отсутствия, который воспринимался бы нами как излучение массы в виде энергии сгорания. В тот момент, когда точка достигла бы своего исходного состояния, то, что представлялось нам массой, стало бы равным нулю10.
Таким образом, в нашей модели действуют две основные силы: это сила, которая исходит из некой нейтральной точки и распространяется во всех направлениях одинаково (назовем ее расталкивающей силой), и реакция на эту силу, направленная в сторону, ей противоположную (назовем ее силой гравитации). При этом точка, откуда исходит расталкивающая сила, одновременно является центром, куда направлена сила гравитации (у нас она будет называться полюсом гравитации). Сама же сила гравитации зарождается в полюсе гравитации и по мере удаления от него растет, пока не уравновесит расталкивающую силу, образуя тем самым соответствующую форму11.
Следует сказать, что состояние материи, возникающей из полюса гравитации в результате взаимодействия двух сил, не является стабильным. Напротив, под воздействием силы гравитации, она совершает движение назад, к полюсу гравитации, по пути излучая, то есть теряя свою массу в виде энергии сгорания. Происходит постепенный дрейф материи к полюсу гравитации, где ее масса становится равной нулю. Это как бы воронка, из которой выталкивается все сущее и куда потом втягивается все сущее12. Но, поскольку движение это происходит не в пространстве (в пространстве материя поддерживается расталкивающей силой), оно может происходить только во времени. Поэтому я думаю, что движение материи к полюсу гравитации, в результате которого происходит сгорание ее массы, и есть время13.
Из нашей схемы следует также единство и тождество гравитационных и электрических взаимодействий. В самом деле, поскольку тенденция полюса гравитации обозначает себя стремлением притянуть, а тенденция материи стремлением притянуться, эти две тенденции противоположны друг другу. Значит, если обозначить тенденцию полюса гравитации знаком «+», то тенденция материи может быть обозначена знаком «–». То есть мы получили, фактически, планетарную модель атома, в которой разноименные заряды притягиваются, а одноименные – отталкиваются. В этой связи вспоминается сходство между законом Кулона, описывающим взаимодействие двух электрических зарядов, и законом всемирного тяготения Ньютона.
Напомню, что заряды q1 и q2 в законе Кулона находятся в том же соотношении, что и массы материи в законе всемирного тяготения, а сила их взаимодействия, как и сила притяжения, действующая между двумя массами, обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами. Обычно это воспринимается как совпадение, потому что считается, что силы взаимодействия электрических зарядов и силы тяготения масс материи не могут иметь между собой ничего общего. Однако из нашей схемы следует, что сходство между законом Кулона и законом всемирного тяготения больше чем простое совпадение. Это, скорее, свидетельство того, что в природе просто не может быть иных взаимодействий, кроме гравитационных.
4
Из сказанного следует, что коль скоро в основе всех взаимодействий в природе лежит одна и та же схема, обусловленная действием одной и той же силы, значит, эта сила во вселенной едина. Иначе говоря, она исходит из одного источника и действует одинаково и при формировании атома, и при формировании организма, и при формировании вселенной. Между тем эта сила, которая существует в единственном числе, действует сразу в огромном множестве явлений и при этом создает все многообразие форм. Такое положение может иметь место только в одном случае: если существует механизм, который обеспечивает согласованное действие силы во всех явлениях. Думаю, что таким механизмом может быть только энергетическое поле14.
Еще в тридцатые годы прошлого века российский биолог А.Г.Гурвич высказал мысль о существовании поля, регулирующего процессы в животном и растительном мире. К этой мысли Гурвич пришел в результате наблюдения строгой согласованности, которая существует между отдельными частями организма в ходе его развития. Так, в ходе развития зародыша перемещение множества отдельных элементов для образования конечной формы происходит скоординировано. Как и в случае полей электрического, магнитного или гравитационного, здесь тоже многочисленные и первоначально однородные клетки дифференцируются и занимают строго определенное положение. Трудно понять причины такой взаимосвязи между разными элементами, если не иметь в виду их подчинение единому закону поля.
Но подобная связь существует не только между клетками отдельного организма. Она существует также и между отдельными организмами, если они объединены в некую целостность. Особенно наглядно она проявляется в поведении роя, стада или стаи. Колония термитов сооружает свои замки, не имея ни плана работ, ни централизованного управления. Стая птиц находит путь на зимовку, хотя вожак чаще избирается из молодых особей, родившихся в этом году и не знающих направление движения. А популяция тараканов реагирует на угрозу уничтожения увеличением интенсивности рождаемости.
Более того, в поведении животных наблюдаются некоторые функции, которые нельзя объяснить, исходя из их физиологических потребностей. Эти функции предназначены для поддержания жизнедеятельности не особи, а вида в целом. Учитывая, что животные не могут знать, в чем заключается их назначение и цель, приходится констатировать, что данная особь, бессознательно выполняя эти функции, находится под воздействием некой программы развития, уже заложенной в структуре поля, управляющего жизнедеятельностью вида. То же относится к более высоким таксономическим группам – родам, семействам, отрядам и т.д. В целом же сбалансированность и согласованность всего живого на Земле можно рассматривать как результат действия поля биосферы, а биосферу Земли – как часть поля вселенной. Вот энергетическое поле вселенной, по-видимому, и позволяет распространить закон единства и борьбы противоположностей на все явления природы.
Посмотрим теперь, каким должно быть энергетическое поле, чтобы в нем выполнялось условие связи между разными таксономическими группами. То есть, чтобы каждый индивид был зависим от своего вида, вид – от рода, род – от биосферы Земли, а биосфера зависела от вселенной. И здесь мы должны исходить из двух известных нам фактов. Во-первых, что любое событие является составной частью другого, более глобального события. Например, организм входит в состав стада, стадо – в состав популяции, популяция является частью среды обитания и т.д. И, во-вторых, что любое событие есть отражение закона единства и борьбы противоположностей. Иначе говоря, с одной стороны, поле должно быть устроено наподобие матрешки: одни структуры должны входить в состав других, те – в состав третьих и т.д. В результате всякое множество оказывается структурой того или иного единства15. А с другой – каждая клеточка этого поля должна включать в себя два противоположных друг другу начала и результат их взаимодействия16.
В качестве наглядной иллюстрации такого поля может служить несколько видоизмененный «Круг универсума» из трактата Николая Кузанского «О предположениях». Здесь мы видим большую окружность, в которую вписаны три малые окружности. В каждую из вписанных малых окружностей вписаны еще по три окружности, в них, в свою очередь, вписаны тоже по три окружности и так до бесконечности. Понятно, что в нашем случае каждая из окружностей олицетворяет собой то или иное явление. В свою очередь, вписанные в окружность другие окружности олицетворяют, с одной стороны, явления, входящие в состав первого явления, а с другой – противоположные друг другу начала (две крайние окружности) и результат их взаимодействия (средняя окружность) (см. рис. 1).

Данная схема дает возможность показать связь между явлениями на любых уровнях мироздания. Например, если принять, что малые окружности здесь соответствуют отдельным организмам, то эти организмы являются составной частью окружности, олицетворяющей семью, в которой одна из окружностей соответствует мужской особи, другая – женской, а средняя – плоду, как результату их взаимодействия. Здесь единство и противоположность мужского и женского начал обеспечивает процесс воспроизводства. В свою очередь, три семьи составляют стадо, где его единство включает в себя внутривидовую борьбу, обеспечивая совершенствование вида. Следующие три окружности составляют среду, где отбор наиболее приспособленных видов обеспечивает борьба межвидовая. И, наконец, на планетарном уровне через противостояние мира органического и мира неорганического формируются условия для возникновения жизни как таковой. Что же касается самого большого круга, то он олицетворяет собой универсум, в котором, силами притяжения и отталкивания формируется вселенная. В целом же вселенная организована таким образом, что все ее устройство отражается в каждом, даже самом малом фрагменте поля, а любой самый малый фрагмент поля во всей полноте содержит в себе вселенную17.