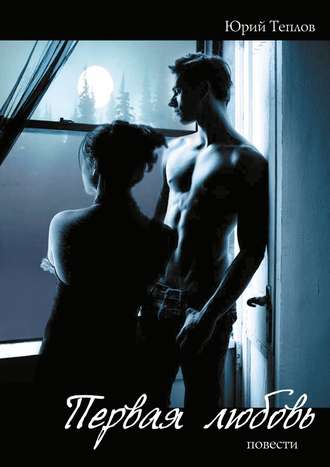
Юрий Теплов
Первая любовь
«Зеленая мыльница!»
Примерно через неделю Хач появился в нашей казарме еще до подъема, когда там были только старшины. Приказал офицеров не вызывать, а личному составу сыграть тревогу. Солдаты с полной выкладкой выстроились на плацу. Хач дал сержантам команду на пятикилометровый марш-бросок, а сам вернулся в казарму и устроил шмон.
Это были последние часы Серегиной безвестности. Еще не зная о проверке, мы прибыли в полк и сразу же попали на разбор полетов.
– Лейтенант Толчин! – вызвал подполковник.
Сергей вскочил с места и замер.
– Посмотрите на него! – сказал Хач, и мы уставились на Сергея, ожидая ОВ. – Молод? Да! Проходит период командирского становления? Да!
Тревога в воздухе сгустилась. Сергей был взведен, как курок. Хач сделал паузу и объявил:
– Мал золотник, но дорог!.. Обобщить опыт с зеленой мыльницей!
Сергей облегченно выдохнул воздух и отчеканил:
– Слушаюсь!..
Все объяснялось просто. Дня за четыре до этого бойцам выдали положенные им три рубля, таким было в ту пору солдатское жалованье. Сергей дал команду сержанту изъять половину и приобрести на эти деньги одинаковые сапожные щетки, мыло и зеленые мыльницы.
– Почему зеленые? – спросил я его вечером, когда мы топали по темному полю.
– Солдатский цвет, – ответил он.
– Вот и догадайся, где найдешь, а где потеряешь.
– Помнишь, Ленька, как Хач встретил нас?.. «Солдат все должен делать по стандарту, и в единообразии видеть смысл красоты!» – передразнил он очень похоже подполковника. – Вот я и устроил единообразие.
– Химик ты.
– Ага, – согласился он. – А то ли еще будет!
Все-таки нахалом был Серега. Всегда хотел быть на виду. И не скрывал этого. Говорил, что надо иметь задел на будущее.
Но ведь и по-другому было! Я всегда помнил тот случай в училище, когда он вытащил меня из дерьма. Как на сцене выступил, хоть и пошел против старшины Кузнецкого. А ведь тоже напоказ: глядите, какой я честный.
– А ты карьерист, Серега, – сказал я ему уже дома.
– Ага, – с готовностью согласился он. – Служба обязывает. Ты же не против стать когда-нибудь генералом?
Я промолчал, хотя и был не против.
– Чудно вы балакаете, – вмешалась тетя Маруся, вязавшая у печки носки. – Вроде, как ругаетесь.
– Не ругаемся, мамаша, – Сергей с первого дня нашего квартирантства стал ее так называть. – Ругань для нас – роскошь.
– Роскоши у вас кот наплакал, – отозвалась она. И тут же спохватилась: – Ой, Лёнчик! Письмо тебе. Нет, не от нее, мужское. Почтальонша еще утром принесла.
…«Здравствуй, дорогой друг Леня! Узнал у твоей матери адрес и шлю тебе таежный привет. Как ты там, в теплых краях? Может, уже женился? Тебе бы невесту попроще, все-таки по гарнизонам придется мотаться. Я тебе и раньше хотел об этом сказать, да всё не решался. Ну, да не мне судить…
У меня все нормально. Собираюсь менять специальность, догадываешься, что к чему?.. Да и у вас, наверно, то же самое… Посылаю тебе посылку с кедровыми шишками… Твой друг Даниял Бикбаев».
Ах, Данечка, стриженая головушка! Разыскал все же, отозвался из своего дальнего далека!.. Нет, Даня, не женился я. На потом отложила это дело моя Дина… Намек твой насчет специальности я понял. У нас тоже поговаривают о переучивании на ракетные комплексы. А когда и где – никто толком не знает: секрет!.. Так что считай, завидую тебе белой завистью… Нет, Даня, у нас ни кедров, ни синих зайцев. Есть недалеко лес, куда я так ни разу и не выбрался. Всё мое время уходит на Мостушку. И еще есть у меня рядовой Гапоненко – вот уж послал черт подчиненного!.. И есть рядом Серега Толчин, о котором ты в письме даже не упомянул…
Осень приползла дождливая, слякотная, грязная. Мы не успевали мыть, сушить и начищать ваксой сапоги. И на рядового Гапоненко, видно, осень подействовала: он приутих, исчезла из его глаз нахалинка. Мне даже иногда казалось, что вместо нахалинки в них поселилась тоска.
Мой помощник сержант Марченко говорил:
– Как бы не учудил чего Гапоненко!
Я попытался как-то вечером поговорить с ним, но он глянул с непонятной для меня укоризной и сказал:
– Индивидуальную беседу, значит, решили со мной провести. Беседуйте!
И на все вопросы отвечал:
– Никак нет…
Да я и сам понял, что не получается разговора, и вряд ли вообще получится. Между нами стояла стена, которую ни свалить, ни даже пощупать. Настроение от этого сделалось хуже некуда, и я показался себе беспомощным, как кутенок, которого кинули во взрослую собачью стаю. Наверное, Гапоненко почувствовал мое состояние, я уловил даже какое-то сопереживание в его глазах. После чего он вдруг спросил:
– Что вас, товарищ лейтенант, с Зеленой Мыльницей связывает?
– С какой еще «мыльницей»?
– Разве вы не знаете, что у вашего дружка такое прозвище красивое?
– У лейтенанта Толчина, что ли? – уточнил я, хотя уже понял, что речь о нем.
Значит, прилепилась-таки зеленая мыльница к его имени. Наверное, любой, даже самый маленький поступок оставляет след: в памяти ли, в жизни ли, в психологии человека. Интересно, знает Толчин о своем прозвище или нет? Пожалуй, нет, потому что к этому времени мыльницы ушли для него в прошлое, а сам он летал на крыльях почина.
Случилось это так.
Мы с ним в числе нашей полковой делегации ездили на армейскую комсомольскую конференцию. Еще до отъезда он стал задерживаться на службе. О чем-то шептался с комсомольским секретарем Лёвой Пакусой. Вместе они бегали в штаб к замполиту. Даже дома он что-то писал, комкал листы, швырял на пол и снова писал.
На конференции речи с трибуны катились гладкие и круглые. Почти каждый из ораторов заверял в чем-то настолько неконкретном, что слова не затрагивали сознание сидящих в зале, а может быть, и в президиуме.
Наконец, слово предоставили лейтенанту Толчину.
– Я уполномочен комсомольской организацией нашего полка доложить следующее, – так начал Сергей. И, очень четко выговаривая слова, не заглянув ни разу в бумажку, произнес речь.
Все его подчиненные брали обязательства стать отличниками боевой и политической подготовки, спортсменами-разрядниками. Все обязались овладеть смежными специальностями в расчетах. И больше того, получить классность по совсем уж посторонней (впрочем, нужной!) специальности химика-дозиметриста. Еще они обещали разбить на территории городка комсомольскую аллею.
Красиво говорил Сергей! Даже я заслушался, увлекшись словами о корчагинской вахте и традициях, которые должны стучать в сердце. Говорил-то красиво, но замахнулся, подумалось, явно не по силенкам. И тут же вспомнил наш разговор после зеленых мыльниц, его фразу: «То ли еще будет!» Вот, оказывается, что он имел в виду. Значит, сказал не для красного словца. Значит, уже приготовил свой сюрприз конференции.
В перерыве его в чем-то горячо убеждал корреспондент окружной газеты. Сергей с улыбкой слушал и не соглашался. Но я знал его очень хорошо и видел, что не соглашался он нарочно: не купишь, мол, за рупь двадцать!
Наконец, он утвердительно кивнул и солидно пожал руку корреспонденту…
– Ведь липа, Серега, а? – спросил я его по возвращении домой.
Мы сидели друг против друга. На столе ядреные соленые огурчики. Тетя Маруся, хозяйка, примостилась на табуретке возле печки. Смотрела на нас, подперев ладонью щеку, и слушала внимательно и непонимающе. Он похохатывал, с хрустом закусывал огурцом. Что-то появилось в нем новое. Этакая снисходительность ко мне.
– Зачем трепаться-то? – повторил я.
Он снова хохотнул и, наконец, снизошел. Именно снизошел, я почувствовал это.
– А ведь я прав, Лень. Пусть даже только половина моих людей станет отличниками, дозиметристами – разве плохо?
У него потрясающее умение не отвечать на вопрос конкретно. Я всегда ловил себя на том, что вроде бы он все говорит правильно, а я не соглашаюсь с ним.
– Ты слухай, Ленчик, Сергея. Бачь, який вин справный, – вмешалась тетя Маруся.
Сергей, точно, был справный. Все на нем ладно: и гимнастерка, и портупея, и сапоги сидят как влитые. Словно и родился в форме. Хаченков про него сказал: военная косточка.
Я замолчал, обиженный его снисходительностью. Ковырял вилкой жареную картошку, думая о том, что все было бы не так, сиди рядом с нами Данька. Сергей не выдержал моего молчания, отодвинул от себя тарелку, произнес:
– А насчет «трепаться» – поговори с замполитом. Он объяснит тебе все про соцобязательства. И еще спроси его: как совместить эти самые обязательства и уставы, где все расписано, кому и что положено и в каком количестве. Ну что, слабо?
Он опять ушел от конкретики, опять втравливает в старый, еще училищный спор. Я, конечно, помню, как мы тогда, посмеиваясь в кулаки, говорили с серьезным видом:
– Товарищ Толчин, вызываю вас на социалистическое соревнование.
– Я принимаю ваш вызов, товарищ Дегтярев, и беру на себя следующие обязательства…
– Товарищи курсанты, – предупреждал перед проверкой наш командир взвода, спортсмен. – Зайдите в ленкомнату, посмотрите свои обязательства, чтоб не ошибиться, если спросят. Не вздумайте забыть, с кем соревнуетесь!..
Все так. Но ведь и другое было.
Я глянул на Сергея. Он уставился на меня в ожидании и в готовности прекратить этот серьезный и вроде бы бесполезный разговор. Да, было однажды и так, что курсант Толчин орал на всю батарею, что у второго расчета сошники не вбиты, и требовал все начать сначала. Это было перед стрельбами. Командир взвода внял его воплям, скомандовал: «К бою!» – и запустил секундомер. Рвали с орудий чехлы, отбрасывали станины, на лице смешались пыль и пот. И опять наш второй расчет опередил расчет Толчина. Разве это не соревнование?
Мы грызли те секунды зубами. Мы взвешивали каждое движение. Мы подсчитывали время, как скупец считает копейки. И говорили: «Еще есть 12 секунд… есть еще 17…» И когда Стаська Давыдов применил свою рационализацию, и мы прихватили в свой актив целых полминуты – это был праздник нашего расчета. А потом, когда вся батарея получила эти 30 секунд форы, был праздник для всех. И Сергей тогда сказал безо всякой рисовки:
– Эти секунды в бою – фора для жизни.
Правильно сказал. Я бы не смог так. У меня слова, как чурки: сложу их в кучу, а огня нет. Когда думаю, вроде бы все получается правильно, а выскажусь – совсем не то. Потому лучше ничего не говорить.
– Я же не отделяю себя от всех, Ленька! – в его голосе появились оправдательные нотки. – Я же для людей! Ведь то, что мы обещали, станет рубежом для всех! Пусть все лезут вверх! Пусть хоть до половины! Все равно пройденного будет много. Значит, польза, так?
– Кому польза, Сергей?
– На меня намекаешь?
– На тебя.
– Не только мне польза. Всем…
В воскресенье в полку был укороченный рабочий день, и домой мы явились еще засветло. В гостях у тети Маруси была соседка. На столе стояла ополовиненная бутылка казенной «Горилки». Они уже приняли на грудь. Сидели, обнявшись, и на два голоса пели «Мисяц на нэби, зироньки сяють…».
Нас тут же пригласили за стол. Тетя Маруся поставила два стакана, плеснула в них горилки, сказала:
– Дусину дочку поминаем. Тринадцать годков, как ее нет.
– Умерла? – спросил я.
– Повесили ее бандеровцы, партизанкой была.
Помянули. Соседка Дуся всплакнула. Проговорила сквозь слезы:
– Мало я их пожгла.
– Она хату подпалила, где бандеровцы остановились, – объяснила тетя Маруся.
Вот она, война! Прошло одиннадцать лет после Победы, а она всё дышит, обжигает потерями. И вряд ли раны зарубцуются.
Тетя Маруся слазила в подпол, достала бутылку чемергеса.
– Только на буряках и картохе выжили в оккупацию, – сказала она, ставя бутылку на стол. – Корову и поросенка немцы забрали. Курей полицаи переловили…
Утром, шагая по полю в полк, я сказал Сергею:
– Бессовестные мы с тобой.
– Чего вдруг?
– Тетя Маруся нас кормит, поит, а мы ей – ничего.
– За квартиру платим. А за еду она отказалась от денег. Я предлагал.
– Давай ей корову купим? Съездим на скотский базар в Коростень и купим.
Сергей с некоторым недоумением посмотрел на меня. Затем оживился и воскликнул:
– Хорошая идея, Лёнька! Не возражаю. Только как мы ее покупать станем? Ни ты, ни я в коровах не разбираемся.
– Я старшину попрошу с нами съездить. Он до войны в колхозе работал.
– А я у командира полка грузовик выпрошу. Надеюсь, мне он не откажет…
Задумано – сделано. В воскресенье, после полудня, у мазанки тети Маруси остановился грузовик. Самой хозяйки дома не было, колхозные заботы призвали ее на конюшню. Старшина аккуратно свел купленную буренку по сходням на землю. Собравшаяся вокруг ребятня с любопытством взирала на происходящее. Самый шустрый из них спросил:
– Чья скотина?
– Тети Марусина, – ответил я.
Старшина достал из кармана кусок хлеба:
– Пожуй, Феня, – и погладил голову буренки.
Затем завел ее во двор, занес сходни.
– Сколотите потом загончик для Феньки. – Попрощался с нами и укатил в полк.
Наверно, тете Марусе кто-то из ребятни сообщил про корову. Она прибежала, запыхавшись. Бухнулась перед нами на колени и запричитала:
– Сыночки вы мои миленькие! Спасибо вам, родненькие!
Мы подняли ее, усадили на кровать. Серега достал платок, вытер ей слезы. Она продолжала всхлипывать.
– И отблагодарить-то вас нечем!
– Чемергесом, мать, – сказал Сергей. – Обмоем покупку, и мы с Лёней начнем делать загон для буренки по имени Фенька…
Серега купался в лучах славы. Еще в первом номере окружной газеты с его портретом журналист вознес его до небес. Даже про синюю птицу не забыл: мечтает, мол, лейтенант Толчин ухватить ее за хвост. И пошло. Почин лейтенанта Толчина подхватывали молодые офицеры со всего округа. Я старался быть от этой шумихи в стороне, пока не прочитал в субботнем номере заметку, напечатанную под рубрикой «У инициаторов». В ней сообщалось, что лейтенант Толчин и его сослуживец лейтенант Дегтярев купили на свои сбережения корову для местной жительницы, пережившей оккупацию.
– Ты с ума сошел! – сказал я Сергею. – Зачем ты это в газету тиснул?
– Разве не правда?
– Но ведь не для газеты мы Феньку покупали!
– Не вижу ничего плохого в публикации. Пусть люди знают, что советские офицеры всегда готовы помочь местным жителям. Может, кто-нибудь последует нашему примеру.
– Еще один почин?
– Понимай, как хочешь.
Все правильно говорил Сергей. А я испытывал раздражение. Оно не покидало меня до субботы. Каждую вторую субботу месяца личный состав полка отправлялся в баню с парилкой. Офицеры тоже. Банный день именовался санитарным. И был почти нерабочим.
Сергей уже был дома. Их батарея отбанилась перед нашей. Тетя Маруся быстро накрыла стол. Помимо привычных чемергеса, соленых огурчиков и картошки, она пожарила курицу. Села с нами за стол, выцедила, не поморщившись, свои обычные полстакашка и, подперев щеку ладонью, слушала, о чем мы говорили.
– Ты же не выполнишь свои обязательства! – сказал я.
– А никто никогда и не выполняет. Это игра.
Сергей хохотнул. Последнее время он стал почему-то похохатывать. Плесканул еще в стаканы. Хозяйка прикрыла свой ладонью: будя! Я с отвращением глотнул шибающий в нос чемергес, запил огуречным рассолом. Вонь исчезла, а в грудях захорошело. Почувствовал себя уверенным, решительным и бескомпромиссным.
– Брехать-то зачем, Серега?
– Не будь Христосиком, Ленька. И кончай занудствовать.
Он разлил остатки и намекающе глянул на тетю Марусю.
– А не лишку буде? – спросила она.
Мы оба замотали головой: не лишку!
Она слазила в подпол, достала еще бутылку, заткнутую тряпицей. Сказала:
– И мне капелюшечку.
Она выпила свой глоток, мы приняли по полстакана. В голове моей стали плавать рыбки. Но я все равно чувствовал, что соображаю нормально. А значит, абсолютно трезвый. И должен сказать Сергею что-то веское, чтобы он понял, что неправ, и его социалистические обязательства вместе с почином – обман. Наконец, я изрёк:
– В разведку бы я с тобой не пошел!
– Ха-ха, – опять хохотнул он. – Такие, как ты, в разведку не годятся.
– Это я не гожусь?
– Ты.
Я начал заводиться. Возникло желание плюнуть в его породистую физиономию. Или врезать по губам, как когда-то в курсантском кубрике. В то же время я соображал, что надо оставаться в равновесии. Кричать и дергаться – значит, показать свою слабость.
– Знаешь, кто ты есть? – почти спокойно спросил я.
– Ну?
– Гнида!
– А ты – болван, – хохотнул он.
– Вы чого, хлопцы? – вмешалась тетя Маруся. – Драку затеваете? Ленчик, тебя же Сергей задавит!
Меня в тот момент никто не мог задавить. Я ощущал себя могучим и сильным.
– Сережа, – жалобно произнесла хозяйка. – Це не вин балакае, а вино. – И мне: – Успокойся, Ленчик. Сергуня тебе добра желае.
Она всем хотела добра, наша хозяйка. Муж ее пропал в войну без вести, осталась бобылкой. В мамки она нам не годилась. Разница в годах была лет семнадцать, не больше. Просто она усохла и сморщилась без мужика. Выбила война сельских мужиков, и некому было приголубить баб.
– Иди спать, Леонид! – сказала тетя Маруся.
Но я уперся: не хочу спать. Сергей тем временем опростал бутылку, налил себе больше, чем мне.
– Поровну! – категорически возразил я.
Он не возражал. Я проглотил свою порцию. И отключился.
Утром Серега чуть растолкал меня. От пробежки к пруду я отказался, и он убежал один. Во рту у меня будто ночевал поросенок. Я блукал по хате, как сонная муха, пока тетя Маруся не налила мне кружку холодного рассола. Я слегка пришел в себя, но в сравнении с Сергеем выглядел мочалкой.
Служба в тот день мне медом не казалась. Даже Дину ни разу не вспомнил, и вылетел из головы Гапоненко.
Танька-попадья
Лихо отплясали в сельской чайной Новый год. С вечера Серегу увела костлявая и сексуально озабоченная фельдшерица. Нашу пьяную размолвку мы с ним, словно уговорившись, не вспоминали.
Зачастила письмами Серегина Ольга. И совсем перестала писать Дина. После службы я бегом спешил домой, и первое, что слышал от тети Маруси:
– Нету письма, Леонид.
Дина не ответила на шесть моих писем. И я ворошил свою память, словно подгнившее сено.
…Дождь, дождь, дождь. В их огромном подъезде сухо и гулко. Я стою у стены в мокром обмундировании с курсантскими погонами. И она с зонтиком и сумкой-портфельчиком.
– Я же говорила тебе, встретимся у скамейки. А ты сюда… Вдруг увидит кто?..
…Нет дождя. Под ногами сухие и хрусткие листья в скверике. Мы с Диной бредем по безлюдной аллейке. В моей голове крутятся стихотворные строчки: «И, как много лет назад, уведу вас в листопад, в тихо осыпающийся сад». Она остановилась, повернулась ко мне. Потрогала золотистый погон на моем парадном мундире.
– Подожди до лета, Лёнь. Я приеду к тебе, куда скажешь…
Почему я не могу вспомнить ее глаза? Вижу лоб, завиток возле уха. А глаз не вижу… И еще вижу дачную комнату, лицо в обрамлении рассыпанных на белой подушке черных локонов. Зачем было воздерживаться в ту ночь? Я же чувствовал, что ей тоже невмоготу. Глупый, глупый смешной дуралей! Вот и беги теперь за паровозом, унесшим с собой вчерашний день!
Стой, планета, кончай крутиться!
А она все крутится. Я вижу, как Дина уходит. Куда? Чуть приподняты плечи. Опущены руки. «Я не знаю, куда девать руки. Мне обязательно надо что-нибудь нести…».
– Нету письма, Ленчик! – виновато говорила тетя Маруся и утешала: – Здалась вона тебе така-сяка? Вон дивчата яки без хлопцев страдают!
Что поделать с этим «нету»? Отпуск мне не дадут, отпуска по графику. По семейным обстоятельствам – Хач не отпустит. Да и нет их, семейных обстоятельств.
Серега на все лады костерил Дину и по-своему проявлял обо мне заботу:
– Давай уведем у попа Таньку! Она же давно глаз на тебя положила!
Я и сам это заметил. Бывшая буфетчица совсем не годилась на роль матушки. Та же бойкая бабенка, тот же манящий взгляд, которого я старался не замечать.
– Не дрейфь, – не унимался Сергей. – Матушкиным любовником станешь. У меня фельдшерица, а у тебя, ха-ха, матушка.
Я отмахивался, но от его шуток становилось легче.
Однажды, в выходной, когда тетя Маруся повезла в район одноногого агронома, Серега исхитрился привести Таньку в гости. Выставил на стол банку тушёнки и бутылку казенной, не угощать же гостью чемергесом.
Бывшая буфетчица не чинилась. После первой зарумянилась, расстегнула ворот кофточки, в которой явно тесно было ее роскошным грудям.
Бутылку мы опростали без спешки, после чего Серега быстренько собрался и сказал:
– Я отвалил. Ты, Танюха, смелее с ним, а то он шибко скромный.
Едва он захлопнул дверь, как она подошла ко мне, прижалась. Голова моя пошла кругом, и намерение сбежать улетучилось. Я не отшатнулся от нее. Она впилась в мои губы, и мы свалились на кровать.
Опыта в этом деле у меня не было. Но ее умения хватило, чтобы я не промахнулся. Однако уплыл со скоростью снаряда и стыдливо сполз с нее. Она погладила меня, как ребенка, и успокоила шепотом:
– Отдохни. И разденься. На втором заходе не торопись.
Встала. Сбросила с себя все одежки. Тело ее так и дышало спелостью. В нем всего было с избытком: могучая грудь с темными сосками, зад шириной с комод и курчавые рыжеватые волосы чуть ли не до пупка. Наклонилась, стянула с меня брюки и все остальное. Легла, притиснувшись ко мне горячим телом. Стала оглаживать пальцами всего. Через малое время я снова был в боевой готовности. И по ее совету не торопился. Она извивалась, постанывала, шарила руками по моей спине и по ягодицам, втягивала в рот мои губы и язык. Вдруг лицо ее исказилось, и в тот момент, когда я снова поплыл, она испустила долгий утробный вопль…
А минут через пять деловито сказала:
– Мне домой пора, Ленчик. Через час батюшка на обед явится, кормить надо.
И я вернулся с грешного неба на землю. Она, не торопясь и повиливая могучей кормой, оделась. Махнула по волосам гребенкой. Сказала:
– Будет желание, дай знак, – и ушла…
Желание у меня было. Но знака ей не подавал: совесть терзала. Как я встречусь теперь с Диной? И появилось дурное предчувствие, что не будет обещанного Диной следующего лета. И вообще ничего не будет.
Зато точно знал, что никуда не денутся от меня рядовой Гапоненко, весенняя проверка боеготовности, летние лагеря и стрельбы…
Кто ты есть, Гапоненко? И как мне тебя воспитывать?..
– Вы верите, что справедливость всегда торжествует? – спросил он.
Верю ли я?.. Бывает, что торжествует. Если за нее хорошо подраться. Себе я могу признаться, что не всегда лез за справедливость в драку. А что сказать подчиненному?
– Нет, не всегда торжествует.
– Я думал, вы побоитесь признать это.
– Вы – что, считаете себя несправедливо обиженным?
– Считаю.
– В чем, если не секрет?
– Секрет…
Не хочешь говорить, Гапоненко, не говори. Но, между прочим, если всем обиженным ковырять свои болячки, толку мало будет. Меня вон тоже обижают, а не ковыряю свои обиды. Некогда ковырять, выматываюсь.
– Все-таки ты не прав, Гапоненко.
– Так даже приятнее.
– Что приятнее?
– Что вы меня на «ты».
– Скажи, Гапоненко, что тебя ест? Почему ты всегда один?
– Неправда ваша, товарищ лейтенант.
– Ну да! «Неправда ваша, дяденька»!
По его неулыбчивым губам пробежала смутная улыбка.
– Товарищ лейтенант, а слабо поговорить без погон?
– Давай без погон.
– Вы капаете мне на мозги, потому что я вчера попался. Так?
– Так.
– И раззвонили о моей самоволке на весь полк. Так?
Я счел за лучшее обойтись без второго «так».
– Самоволили мы, товарищ лейтенант, на пару с Зарифьяновым. А Зарифьянов – подчиненный вашего дружка Толчина. И Толчину тоже известно про самоволку. Но тот не стал звонить. Завел Зарифьянова в каптерку и врезал пару раз по морде. И все шито-крыто.
– Ты хочешь, чтобы и тебя тоже по морде?
– Честнее было бы. И всем легче. Вы тоже втык из-за меня получили.
– Получил, Гапоненко. Но бить подчиненного – не по-мужски. Он же не может дать сдачи.
– Зато на психику никто не давит.
– А на тебя кто давит?
– Вы. Да и сами маетесь. Пожалели бы себя. Ваш дружок-инициатор не Зарифьянова пожалел, а себя.
– Почему вы все о Толчине, Гапоненко?
– Все к тому же, о справедливости. Его хвалят, а вас ругают, хотя вы вкалываете больше, чем он.
– Хвалят и ругают за результаты.
– Одни и те же результаты по-разному могут выглядеть…
Да, по-разному. Тут уж мне нечего было возразить. Уложил меня подчиненный на обе лопатки.
Он вздохнул и сказал:
– Хорошо побазарили, товарищ лейтенант. Разрешите идти спать?
– Идите…
С утра мы выехали в поле. Свой учебный район я уже успел изучить. «Мостушку» мог привести на место даже с закрытыми глазами. Но что-то случилось в тот раз. То ли застил глаза мелкий буранчик, то ли черт закружил. Приотстав от колонны и желая сократить путь по зимнику, мы заблудились. Путлякали по полю без единого ориентира, втыкались в каждый поворот. Наткнулись на санную дорогу и поползли по ней. Она забирала все левей, а нам надо было как будто вправо. Попался заснеженный стог, раньше я его никогда не видел. Уже и рассвет выползал со стороны нашего городка.
В растерянности я велел водителю затормозить и спрыгнул на землю. Стоял, разглядывая незнакомое место. Вылезли из кабины станции и мои подчиненные. Они уже поняли, что мы блуданули.
– Давайте назад по своему следу, – предложил сержант Марченко.
Я достал карту и попытался при свете фары сориентироваться. Санной дороги, конечно, на ней не было. Гапоненко тоже сунул нос в карту. Спросил:
– Сарай нигде поблизости не нарисован?
– Какое-то строение есть.
– Туда, наверно, и ездят на санях. Давайте и мы туда?
Деваться было некуда: поехали. Минут через десяток оказались у глинобитного строения. На крыльце я заметил тетку в телогрейке. Намылился к ней выспросить дорогу. Но Гапоненко уже выскочил наружу и, опередив меня, рысцой подбежал к ней. Я лишь услышал, как она воскликнула басом:
– Лешка! Откуда ты взялся?
– Здорово, тётя Поля. Катюха не тут?
– Что ей тут делать? На дойку пойдет.
– Нам на стрельбище надо, тетя Поль. Вроде бы отсюда налево, так?
– Куда ж еще? Ваши завсегда там воюют. Прямо по-над сараем, и держитесь края. Там своих и увидите.
– Спасибо, – сказал я тетке и направился к тягачу.
Гапоненко нагнал меня.
– Знакомая? – спросил его.
– Фермой заведует. У них тут зимние корма…
В конце концов, на место мы попали, но опоздали на целый час. Бататареи уже заняли огневые позиции. Расчеты занимались оборудованием орудийных двориков. Было слышно, как в скрытой от глаз балке фыркали двигатели тягачей.
В большой палатке был развернут полевой командный пункт. Оставив «Мостушку» на попечение сержанта Марченко, я поспешил в палатку. Вошел, доложил тусклым голосом о прибытии и застыл у входа.
Два длинных самодельных стола были вкопаны прямо в землю. Скамейки возле них – тоже. На них сидели офицеры. На передней пристроился Серега Толчин. Он кивнул мне, выказывая сочувствие: терпи, мол. Подполковник Хаченков стоял в торце стола без шапки, что само по себе уже не предвещало ничего хорошего.
– Явился, голубчик! – Изрек, наконец, он, и его «голубчик» прозвучало, как «сволочь». – Полюбуйтесь на него!
«Любовались» мной довольно долго, так, во всяком случае, мне показалось.
– Два офицера закончили одно училище и оба по первому разряду, – продолжил Хач. – А разница между ними – небо и земля. Я говорю о Толчине и Дегтяреве… Объясните свое поведение, Дегтярев!
Что я мог объяснить? Ну, заплутался. Присыпало снегом поворот, не заметил его. А напрямик поехал – хотел, как лучше.
Хач задавливал меня. У меня даже голос менялся, делался тихим и робким, когда он заговаривал со мной. Я ненавидел себя за это, но ничего поделать не мог. Вот и в палатке смог произнести одно лишь слово:
– Виноват.
Но в этот раз оно не смягчило подполковника.
– Прошу высказываться! – буркнул он.
Все высказались примерно одинаково, в том смысле, что я несобранный, что у меня затянулся процесс командирского становления. Я и сам клял себя за свою дурацкую оплошность. Понимал, что заслуживаю наказания. Слушал без обиды и не залупался даже мысленно.
Ждал, что скажет комбат Шаттар Асадуллин. Ему по должности положено было пригвоздить прямого подчиненного к позорному столбу. Но он отмолчался. Зато вдруг вылез Серега, хотя за язык его никто не тянул. И заявил, что я зазнался и ничьих советов не признаю.
В голове моей пронеслись зеленые мыльницы, самовольщик Зарифьянов, газетные синие птицы. И я неожиданно для себя вызверился:
– Заткнись, Зеленая мыльница!
Тот обиженно заткнулся, зато заговорили все сразу. Всем стало ясно, что я завидую его славе и авторитету. А комсомольский цицерон Лева Пакуса с пафосом объявил, что инициатор почина – это маяк, в том числе и для меня. И пообещал, что моим делом займется комсомольский комитет.
Я стоял со звоном в голове и обреченно ждал конца экзекуции.
– У молодого офицера вышла осечка, сказал замполит. – Надеюсь, комсомол даст правильную оценку его проступку.
Хач покривился, но ничего не сказал.
Потом, до начала боевой работы, мы сидели с замполитом вдвоем в нашей «Мостушке». Я выложил ему все, что думаю о Серегином почине, о зеленых мыльницах и о рядовом Гапоненко. Хотел рассказать о самоволке Зарифьянова, но во время удержался. Не стал стучать на однокашника.
Трое суток ареста от командира полка я схлопотал. На гарнизонной гауптвахте из офицеров оказался я один, и меня назначали старшим команды по очистке плаца от снега. Все бы ничего, но когда мимо проходила строем моя батарея, чувствовал себя, как нашкодивший пес. В остальном же было терпимо. Чистое постельное белье, солдатский харч и даже сортир в помещении, а не на улице. И зеленая тоска от зубрежки уставов внутренней и караульной службы. В восемнадцать ноль-ноль на гауптвахту являлся комендант и принимал у меня зачеты по главам уставов. И не по смыслу, а назубок.
Через трое суток прямо с губы я заявился в казарму. Никакого осуждения подчиненных не уловил. Они как будто даже сочувствовали мне. Был поздний вечер. Идти ночевать к тете Марусе не хотелось. Да и Толчина не было желания видеть. Сидел в канцелярии батареи и глядел, как тычется в окошко снег. Скрипучий фонарь у входа в казарму очертил нечеткий круг. В нем белые змеи сворачивались в клубки и уползали в темноту. Заглянул сержант Марченко, сказал по-свойски:
– Постель на нижнем ярусе, товарищ лейтенант. Старшина вам чистые простыни выделил. – Постоял. Потоптался. – Особо-то не переживайте, товарищ лейтенант, зараз перемелется, – и вышел.
А я и не переживал. Был спокоен, как столб в поле. В сон меня не тянуло. Сел было за письмо Дине. Но слова никак не хотели ложиться на бумагу. Даньку Бикбаева бы сюда, с его добрыми глазами. Пусть бы пожевал немного, прежде чем сказать что-нибудь хорошее. Я бы поплакался ему в жилетку. Так, мол, и так. Осталось в Уфе только одно окно. Оно из другого мира. В нем живет лупоглазый парень. Ночами он сочиняет стихи девчонке, что явилась ему из длинного, похожего на коридор, школьного зала…







