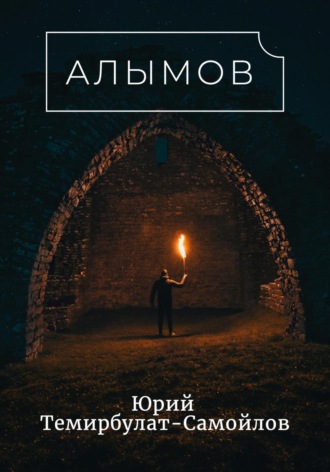
Юрий Темирбулат-Самойлов
Алымов
терпел, поэтому в опасении нарваться на неприятность в виде выговора, а то
и лишения премии, являться приходилось лучше уж загодя, с запасом времени.
Не менее ненавистными для Тараканова днями были и вторники, когда распределённые на вчерашней планёрке по хозяйствам и другим государственно-значимым объектам района сотрудники рано утром разъезжались в однодневные творческие командировки. Чтобы застать на месте в правлении колхоза или конторе совхоза рано разбредающихся в разные, не всегда близкие стороны по служебным делам руководителей и главных специалистов – основных «живых», «из первых уст» поставщиков бесценной для прессы информации о конкретных успехах в сельскохозяйственном производстве, – выезжали на редакционном «уазике» в пять-шесть часов утра. Поочерёдно выходили из машины каждый в намеченном для себя населённом пункте, а вечером «уазик» собирал их снова.
В остальные три дня рабочей недели, хотя и приходилось большей частью сидеть за рабочим столом и кропотливо выдавать «на гора» собранный во вторник и перерабатываемый теперь в готовую журналистскую продукцию творческий урожай, всё же иногда удавалось увильнуть от ранней утренней явки на работу под предлогом посещения нужных для написания газетных материалов районных и областных организаций. И – поспать хотя бы чуть подольше.
А сейчас он, безжалостно и бесцеремонно разбуженный садистом-будильником, лежал в постели с закрытыми глазами и мысленно изничтожал редактора-изувера вместе с его растреклятой газетой и вообще со всей своей опостылевшей работой в целом, из-за которой через несколько мгновений придётся вскочить и бежать. Он ещё не успел отвыкнуть от тех блаженных утренних вставаний, когда, кажется, совсем-совсем недавно его будил не этот отвратительный трезвон будильника, а ласковый голос его родной матушки:
– Арсенти-и-й! Подъё-о-м! Оладики стыну-ут!
Но матушка, царствие ей небесное, вот уже несколько месяцев, как покинула этот мир по нелепой случайности – во время праздничного застолья после кем-то рассказанного анекдота на темы Перестройки и Ускорения она сильно расхохоталась с набитым ртом, и кусочек пищи попал ей в дыхательное горло. Реакция окружающих, уже далеко не трезвых к тому моменту, оказалась, увы, слишком замедленной, чтобы успеть её спасти.
Оставшись один-одинёшенек на всем белом свете (у Сеньки не было, кроме матушки, ни одного близкого человека), не умея ни приготовить пищу, ни постирать и погладить бельё и одежду, он время от времени задумывался: а не жениться ли? Но почему-то эта мысль, возникнув, тут же и обрывалась. Не было желанной кандидатуры. Несколько случившихся в его почти тридцатилетней жизни тесных контактов с противоположным полом не доставили ему никакого удовольствия. Даже – напротив: запах обнажённой женщины отталкивал. Но похоть оставалась, и он еженощно удовлетворял её, как умел – простейшим способом, которому его научили сверстники ещё в отрочестве. Быстрее всего разрядка наступала, когда Сенька в своих эротических фантазиях ставил себя на место женщины, особенно – насилуемой.
Ощутимым толчком к усилению подобных фантазий послужил один случай, когда некоторое время назад ему довелось после удачно взятого интервью париться в бане с одним из руководящих работников Лесогорского лесхоза.
Мужик тот оказался компанейским, дружелюбным и простым в общении. Да вдобавок и – гулякой что надо. После хорошего зачина с добротной выпивкой и не менее добротной закуской, разговор о насущных перестроечных и прочих делах и событиях плавно и неизбежно, как водится в любой сугубо мужской выпивающей компании, перелился в «женскую» тему. Сначала – пара-другая средней «солёности» анекдотов, далее – несколько анекдотов «поперчее» и, наконец, полились обильным ручьём полуправдивые и, как обычно, изрядно приукрашенные геройские любовные истории из запасников личного опыта. Естественно, рассказы Адама Альбертовича (так звали сенькиного нового знакомого), в силу его более богатого прошлого были несравнимо разнообразнее и интереснее. Его воспоминания о собственных или совместных с кем-то из старых дружков злачных похождениях были захватывающие, возбуждающие и одно другого неправдоподобнее.
Распарившийся, разомлевший от выпитого, съеденного и услышанного Сенька уже готов был задать сотрапезнику лениво-ехидный вопрос, а не врёт ли тот, как вдруг в предбаннике, к его волнующе-приятному изумлению, возникли как из небытия две пышнотелые моложавые бабёнки, игриво скинувшие все свои одежды и завернувшиеся в обыкновенные белые простыни. Быстро и ловко заменив на столе обильные объедки и «опивки» на свежую, ещё более обильную выпивку и снедь, дамочки невозмутимо присоединились к честной мужской компании, тут же принявшись с аппетитом здоровых работящих людей поглощать рюмку за рюмкой крепкие спиртные напитки и уплетать за обе щёки ими же изготовленные яства.
Между делом одна из дамочек – дебелая телом и ярко-рыжая растительностью на голове и во всех прочих отведённых природой местах – буквально пожирала своими сияющими плотоядным блеском бесстыжими синими глазищами смущённо впадающего в неконтролируемое возбуждение Сеньку. Она настолько недвусмысленно поигрывала своими шикарными соблазнительными формами, что тот не удержал, в конце концов, рвущееся
из его плоти наружу семя…
Заметив такой конфуз, Адам Альбертович громко расхохотался:
– Арсентий, прости, забыл сразу представить. Это – Маша и Глаша, наши лесхозовские конторщицы. Наряду с основной службой между делом подрабатывают в этой бане. Ну, там – топят раз-два в неделю, прибираются и так далее… Могут знатно попарить хорошего гостя. Так что, давай бери Глафиру и дуйте в парилку на процедуры, ха-ха-ха! А мне тоже вот, с Марией есть о чём с глазу на глаз переговорить. Мы прямо здесь и пообщаемся. А пока все производственные дела как следует не обсудим, просьба к нам сюда не выглядывать. Сам позову, когда закончим. Ну, счастливо попариться!
Исполнительная рыжая Глафира, не мешкая ни секунды, схватила не успевшего опомниться Сеньку за руку и тут же увела его в парную. Но поскольку, как мы заметили, тот уже успел хоть и вхолостую, но очень даже бурно разрядиться, да к тому же был заметно отяжелён употреблённым алкоголем, то даже такой опытной и темпераментной женщине, как Глафира, пришлось долго приводить его в надлежащую мужскую «боеготовность». Она исчерпала весь свой далеко не бедный арсенал изощрённых ласк, включая и вошедшую в последнее время в моду так называемую французскую любовь, о которой большинство советских граждан, а особенно гражданок, до Перестройки лишь слыхали, не смея попробовать, впервые и без малейшего, впрочем, удовольствия испытанную сейчас Сенькой. Но добилась лишь вялой и до неприличия равнодушной реакции.
Однако, несмотря на отдельные мало геройские моменты, кусочек настоящей радости сенькино естество в ходе этой парной пирушки всё-таки получило. Когда Адам (ну, не хотелось Сеньке называть его ещё и Альбертовичем) с довольной раскрасневшейся физиономией заглянул, постучавшись, в парилку и позвал измученную и слабо удорвлетворённую друг другом парочку, если они, конечно, готовы, к столу, тут-то и началось, к удивлению Сеньки, самое приятное.
Собутыльник, уже прочно вошедший в привычный для него во время подобных приключений раж, приблизившись к Сеньке вплотную, с неугасающим аппетитом озираясь на женщин, шепнул ему в ухо:
– А не пора ли, Арсентий, нам с тобой бабами поменяться, а? Сейчас мигом организуем! Для начала сыграем в бутылочку, а там – действуем по обстановке. Я в удобный момент забираю твою рыжую кобылку, и умыкаю её в парилку, а ты – мою Маньку берёшь и делай здесь с ней что хошь. Манька – бабонька что надо, шик-блеск, даже покруче Глашки будет. Не пожалеешь!
– А… они-то захотят это самое, меняться?.. – с некоторым испугом икнул Сенька.
– Да ты что, Арсентий?! Откуда ты такой взялся? Как вроде даже и не журналюга вовсе. Неужто до сих пор не понял, где находишься и с кем имеешь дело? Э-эх, телёночек, научу я тебя как-нибудь понимать и любить жизнь по-настоящему. Если подружимся, конечно. А сейчас, для начала, пройди-ка первый строгий экзамен на мужскую зрелость. Это для тебя, можно сказать, тест на психологическую раскрепощённость и степень зацикленности-незацикленности, то есть внутренней свободы. Усёк? То-то… Ну, давай, Арсентий, не робей!
Сенька обречённо рухнул на одну из стоявших по обе стороны стола лавок и под периодическое «ну, ещё по одной!» игра началась. Неутомимый хозяин застолья клал на стол плашмя пустую бутылку из-под только что выпитой жидкости и с силой вводил её во вращательное движение. На кого, остановившись, эта единица стеклотары указывала горлышком, того вращатель и целовал любым выбранным им способом, чаще всего в губы и взасос. Затем за бутылку брался тот, кого только что поцеловали…
Удивительное дело: ни смачно-крепкие, ни слащаво-нежные поцелуи обеих фигуристых грешниц никак не трогали душу и не радовали плоть бедного Сеньки. Всё его сладко-волнующее возбуждение начала и разгара этой коллективной попойки куда-то улетучилось и возвращаться упорно не желало. Но… как только волею коварной пустой стекляшки ему пришлось обменяться первым поверхностным «протокольным» поцелуем с Адамом, в его промежности что-то неожиданно ойкнуло, да так, что он не на шутку испугался. Ни шиша себе! Этого ещё не хватало…
Адам, по всей видимости, тоже что-то такое почувствовал. Иначе с чего бы это он вдруг так странно поглядел на Сеньку? Когда бутылка совершила свою коварную подлость ещё раз, мужчины поцеловались уже более смело и крепко. На четвёртый или пятый раз, когда от начальной скованности не осталось вроде бы и следа, Сенька вдруг опять заволновался. Ему стало не по себе: уж, не заметили ли женщины такого странного изменения в его самочувствии? Ведь одно дело мечтать о чём-то тайном в одиночку ночью в постели и совсем другое – проявить себя как-то не совсем обычно наяву, на глазах тесно общающегося с тобой хоть и интимного, но всё же малознакомого пока круга сотрапезников. И как к такому проявлению может отнестись сам Адам? Не сейчас, а позднее, протрезвев, после всего этого содома-гоморры? В настоящий-то момент, судя по всему, ему и самому это не в тягость… А дамы, похоже, ничего такого пока не заметили, иначе бы, конечно же, насторожились.
Нервозность Сеньки в какой-то мере передалась и Адаму. И, видимо, чтобы волевым образом как можно скорее прекратить эту постыдую, хоть и притягательную забаву, растущее нездоровое желание, которое могло быть вызвано скорее всего неумеренным употреблением спиртного, мужчины, не сговариваясь, засобирались сворачивать гулянку. Но, уже изрядно возбудившись, они (во всяком случае – Адам) не могли покинуть это сладострастное застолье, не сбросив объективно-естественно накрывшую всех присутствующих очередную по ходу дела волну физиологического возбуждения. Хотя бы самым элементарным, банальным образом. Разведя обеих, ничего не имеющих против женщин в разные углы, Адам (более азартно) и Арсентий (вяло-вяло) удовлетворились примитивно и быстро, как «дежурно» выполняют свои супружеские обязанности давно остывшие к своим жёнам, но ещё «потребные» в сексуальном плане мужья.
После этого щекочущего нервы и кое-какие иные фрагменты мужского организма случая, вызвавшего, кроме всего прочего, и некоторую стыдливую неохоту вспоминать о нём, оба «молочных брата», как они себя в дальнейшем стали шутливо называть, не особо стремились к частым очередным встречам друг с другом. Хотя больших усилий к предотвращению этих встреч и не требовалось – они были маловероятны по той простой причине, что слишком уж разными дорогами и на радикально разных уровнях шли «молочные братья» по жизни. Сенька продолжал валять дурака в низовой журналистике, не имея ни особых талантов, ни воли к чему-то большему. А вот его собутыльник скакнул высоко! Адам Альбертович Алымов уже не тот рубаха-парень, с которым в кругу шлюх-любительниц можно запросто поцеловаться по указке крутящейся-вертящейся бутылочки. Адам Альбертович теперь – большой человек, секретарь горкома партии, о простецкой встрече с которым можно лишь помечтать в постели глубокой ночью.
И когда же, наконец, кончатся для Сеньки эти ненавистные понедельники с обрыдшими утренними редакционными планёрками? Так не хочется в очередной раз подыматься ни свет ни заря! А может, набраться духу, да сходить на приём по личным вопросам к Алымову? Может, и в нём тоже не забылось и хоть чуть-чуть, да трепыхается что-то похожее на тайную страсть Сеньки? И, возможно, большой человек захочет вдруг внести не обременяющие его самого какие-то позитивные изменения в тоскливо-серую сенькину судьбу? И Сенька, рискуя в очередной раз опоздать на планёрку и напороться на гарантированные в таком случае неприятности, исходящие от негодующего редактора, зажмурив глаза и мысленно превратившись в насилуемую женщину, запустил одну руку в трусы и привычно вызвал образ сильного и мужественного, до боли притягательного победителя-повелителя Адама…
Лесогорск, осень 1990 г.
Майор милиции Георгий Скоробогатов всю свою сознательную жизнь прожил в ожидании реванша. Сначала, в далёком детстве, ненавидя большинство своих сверстников за обращение к нему не иначе как «эй, жирный!» (он был очень упитанным ребёнком), Георгий страстно мечтал поскорее «перекачать» телесный жир в крепкие мускулы, стать похожим на знаменитого югославского киноактёра Гойко Митича, красиво игравшего роли атлетов-вождей краснокожих индейцев, и сполна поквитаться с обидчиками, покорив при этом сердца всех без исключения их подружек-невест.
Позднее, будучи старшеклассником, путём долгих и упорных занятий в секции тяжёлой атлетики действительно «накачав» неплохие бицепсы и трицепсы и планомерно, со сладко-мстительным чувством удовлетворения квитаясь то с одним, то с другим своим полузабытым обидчиком, Георгий однажды вдруг с чувством величайшего разочарования обнаружил, что не только ни одна из его отдельных «мордобойных» побед над очередным сверстником, но даже в целом его уверенное неуклонное продвижение по ступенькам своеобразной мальчишеской «турнирной таблицы» от положения «самый слабый» до уровня «сильнейший» так и не сделали его безусловным кумиром школьных красавиц-девчонок.
Значит, – призадумался Георгий, – стальные мускулы всё же не главное мерило жизненного успеха и не стоит, наверное, тратить на их дальнейшую накачку столько усилий. А весь свой потенциал целесообразнее перебросить на что-то более интересное с точки зрения престижа. И спортзал был без всякого сожаления брошен и вскоре совсем забыт.
Однако жажда реванша никуда от самолюбивого Георгия не девалась, и все свои будущие подвиги и успехи он видел лишь как средство осуществления этого реванша, а все его дальнейшие планы и действия без малейших колебаний должны быть направлены в одно русло. Он, чего бы это ни стоило, сделается знаменитым и авторитетным, им будут восхищаться и восторгаться, и в первую очередь те, кто когда-то обижал его или попросту не замечал.
Будучи личностью неглупой и не чересчур ленивой, Георгий, в целях скорейшего самоутверждения, недолго думая приступил к всестороннему самосовершенствованию: стал много читать, начал, не пропуская ни единого дня, в том числе и выходных, посещать все, какие только можно, школьные и внешкольные кружки, секции и студии. К моменту окончания средней школы он был уже отличником, одним из кандидатов на золотую медаль. Научился прекрасно обращаться с фотоаппаратурой и производил на свет неплохие снимки. Мог непринужденно, со знанием дела поговорить об особенностях содержания и разведения породистых собак и кошек, аквариумных рыбок и домашних попугайчиков, о музыке, театре, кино, а также на многие и многие иные темы, обычно затрагиваемые в светском общении.
Но кое в чём, к великой досаде Георгия, а именно – в овладении беспроигрышнейшими, на его взгляд, средствами завоевания интереса девушек и затмения соперников он так и не преуспел. Не научился, например, как ни старался сам, и как ни трудились над ним специально нанимаемые порою на последние материнские деньги педагоги, петь под собственный аккомпанемент на каком-нибудь музыкальном инструменте, самым желательным из которых была, конечно же, гитара. То ли во младенчестве Георгию медведь на ухо наступил, то ли ещё что-то подобное приключилось, но никак не давалось ему элементарное запоминание мелодии (хотя теоретически нотную грамоту в пределах программы начальных классов музыкальной школы он усвоил на «отлично») и упорно не приходило чувство ритма.
Возможно, по той же причине Георгий никак не мог научиться «забойно» вытанцовывать быстрый, да и медленный тоже, шейк на городских танцплощадках и школьных праздничных вечерах. Что шейк, что вальс, что танго – под любую мелодию он, перепутав, мог начать танцевать что угодно. И – одинаково неуклюже и не в такт.
Не преуспел Георгий и в наиболее зрелищных игровых видах спорта: футболе и хоккее – слишком неповоротлив был от рождения. Даже стоя в футбольных воротах (а обязанности вратаря в школьных и дворовых матчах, как правило, исполнял самый малопригодный для роли форварда игрок), Георгий, загораживая своею массивной фигурой почти половину проёма между боковыми штангами, умудрялся пропускать большую часть летящих в ворота мячей.
Но ещё обиднее, чем все вышеперечисленное, для взрослеющего самовлюблённого юноши было отсутствие в его собственности такого блестящего инструмента покорения девичьих сердец, как мотоцикл, на коих залихватски гоняли по улицам его более обеспеченные материально сверстники. Георгий с самого своего рождения воспитывался без отца, матерью-одиночкой, получавшей более чем скромную зарплату библиотекаря и никаких побочных доходов не имевшей. Её заработка едва хватало на самое необходимое. Конечно, благодаря денным и нощным усилиям матери Георгий всегда был сыт, аккуратно одет, чист и опрятен, но никаких дорогостоящих покупок для него, как и для себя самой, она, как ни старалась сэкономить и отложить хоть немного про запас, позволить не могла. А уж о такой роскоши, как мотоцикл, Георгий в этой ситуации даже заикнуться вслух посчитал бы сыновьим свинством.
Единственное, чем уж отводила, так отводила душу любящая мать – это закармливание Георгия буквально с пелёнок огромным ассортиментом разнообразнейшей выпечки, которая получалась у неё мастерски. И главное – недорого. Видимо, во многом благодаря именно этому сдобному ассортименту мальчик и рос чуть ли не одинаково интенсивно что ввысь, что вширь, и выглядел, согласно комплекции, солидно и серьёзно. А серьёзная, солидная внешность, как часто бывает, сама по себе способствовала формированию в нём с младых лет самого что ни на есть серьёзного к своей персоне отношения: он никогда нигде не представлялся и никому не позволял называть его Жорой, Гошей и тому подобными легковесными уменьшительными именами, а только – Георгием. В более взрослые годы, особенно начиная с послевузовского периода и далее, любой человек, даже из среды ближайших приятелей или сослуживцев, рисковал нажить в его лице злобного недруга, если имел неосторожность назвать его иначе, как – Георгий Иванович.
Золотой медали по окончании школы идеальному на первый взгляд претенденту Георгию Скоробогатову не досталось – она была торжественно вручена точно такому же, как и он, отличнику учебы, но почему-то несмотря, в отличие от Георгия, на полное отсутствие каких либо иных достоинств и репутацию хулигана, выбранному дирекцией школы всё же как более подходящая кандидатура, сыну городского прокурора. Георгия, несмотря на глубокую внутреннюю обиду из-за такой явной несправедливости, восхитило могущество прокурора, который вряд ли хоть пальцем пошевелил ради получения его баламутистым чадом медали, приняв это награждение как естественную дань его, прокурора, значимости в жизни города. И это победившее обиду восхищение заставило Георгия с новой, ещё большей силой возжаждать реванша.
Да, по настоящему сильная и цельная личность просто обязана стремиться к тому, чтобы добиться в этой жизни возможностей для безусловного влияния на окружающих людей. И желательно, куда большего, чем влияние того самодовольного городского прокуроришки – отца его одноклассника-конкурента по соисканию золотой медали. Георгий станет известным журналистом и силой печатного слова пригвоздит к позорному столбу всех негодяев, которые этого заслуживают. А заодно – и всех тех, кто хоть раз в жизни хоть в чём-то его обидел. Его будут бояться больше, чем всех прокуроров вместе взятых. Перед ним будут заискивать, пресмыкаться очень многие, в том числе и те сисястые особы в юбках, которые когда-то пренебрегали его вниманием, отдавая предпочтение менее серьёзным его сверстникам.
Как ни обидно, но поступить сразу после школы на факультет журналистики Георгию не удалось – не прошёл по конкурсу, который оказался недосягаемо высоким даже для полноценного отличника, если он не обладает какой-то особенной подготовкой или ещё чем-то таким, что позволяет беспрепятственно обходить любые конкурсы. Зато удалось устроиться на работу корреспондентом заводской многотиражной газеты. Числился в отделе кадров он, правда, не газетчиком, поскольку официальной штатной единицы литературного сотрудника предприятие не имело (в штате «многотиражки» под названием «Красный пролетарий» была лишь должность редактора, который в одиночку явно не мог справиться с выпуском еженедельной газеты), а подсобным рабочим одного из вспомогательных цехов. Формальная принадлежность к «рабочей сетке» дала Георгию возможность без проволочек, сразу после обязательной для таких
случаев отработки годичного трудового стажа на одном предприятии,
вступить кандидатом в члены КПСС.
Причастность же к коммунистической партии, пусть пока и всего лишь с кандидатской карточкой вместо вручаемого аж через год полноценного партбилета, сыграла свою роль в выборе кандидатуры на должность хотя и не самую громкую в масштабах завода, но достаточно интересную для начинающего карьериста. Восемнадцатилетний себялюбец стал секретарём цехового комитета ВЛКСМ. И пусть эта руководящая должность не была освобождённой и исполнять её приходилось параллельно с прямыми служебными обязанностями – ведь цех этот один из самых маленьких и малозначительных на заводе, – но кому об этом известно в городе? Предприятие-то закрытое, так называемый «почтовый ящик»12. Зато вся родня и все знакомые теперь знали, что Георгий ходит в комсомольских вожаках!
Но партийность, пусть даже и была она чрезвычайно полезной в советской стране штукой для служебной, например, карьеры, не давала, однако, ни малейшего иммунитета против почётной обязанности каждого физически здорового гражданина СССР мужского пола отслужить положенный по закону срок в Вооружённых Силах. Георгий считал себя настоящим мужчиной и армии, конечно же, не боялся, в отличие от некоторых хлюпиков или «блатных». С удовольствием отслужил бы положенный срок в каких-нибудь престижных войсках. Даже, если это нужно родной стране, – и на флоте, где в отличие от сухопутных войск служат целых три года вместо обычных двух. Но… только в другое время. Сейчас ему было объективно не до этого: нежданно-негаданно угораздило вдруг не на шутку влюбиться в красивую «до офигения» секретаря-машинистку заводского профсоюзного комитета. Влюбиться так, что в глазах темнело при её появлении в его поле зрения. И свою неглупую, трезвую, степенную головушку, обычно далёкую от склонности к излишним сентиментальным
отклонениям, потерял Георгий начисто.
Пылкое юношеское чувство, к неописуемой радости влюблённого комсорга, встретилось с полной взаимностью, да, в свою очередь, с неподвластной самоконтролю настолько, что Люська, образец трудовой и нравственной дисциплины, великая, несмотря на провоцирующее соблазнительную внешность, скромница, на первом же сумбурно-страстном свидании с не менее до этого скромным ухажёром Георгием в запертой изнутри комнате «Красного уголка» заводоуправления (и как только это осталось незамеченным для общественности!) позволила лишить себя главной девичьей ценности. А поскольку Георгий и сам до сего момента был целомудрен как ангел, и, соответственно, не имел в подобных делах ни малейшего практического опыта, подчиняясь в этот сладчайший миг лишь сумасшедшей страсти, то нет ничего удивительного в том, что «спервого же захода» сделал любимую беременной.
Ну, какая тут, к чертям собачьим, армия? Ведь «запроектированное» таким неожиданным образом дитя надо помочь юной неопытной будущей маме выносить-выходить в течение девяти месяцев, и поднять потом новорожденного хотя бы до первых твёрдых шагов по земле и до элементарного умения взять ложку в руку. Да, ещё ведь до всего этого свадьбу сыграть…
Покаянно-стыдливо «пав в ноги» родителям и испросив у них благословения, молодые после скромной свадьбы зажили по-семейному, пока что в небольшой комнатке заводского общежития гостиничного типа. В надежде получить законную отсрочку от армейской службы Георгий предпринял очередную попытку поступить на дневное отделение факультета журналистики местного университета. Увы, опять неудачно. И, как ни хотелось ему именно сейчас быть рядом с нежно и трепетно любимой женой, тянуть солдатскую лямку всё-таки пришлось. На первом году службы Люська порадовала мужа первенцем-дочкой, а в начале второго, во время краткосрочного армейского отпуска рядового Скоробогатова, была зачата ещё одна девочка. Рождение второго ребёнка повлекло разрешённую законом в таких случаях досрочную демобилизацию. Пусть и небольшой выигрыш во времени, но пару месяцев Георгий у судьбы всё же отспорил.
После демобилизации – опять тот же завод, выделивший молодой трудовой семье с двумя детьми-малолетками не ахти какую просторную, но отдельную квартиру. На заводе – та же самая многотиражка, та же комсомольская работа. Но поскольку по комсомольской линии Георгий, как личность согласно всем характеристикам положительная, начал стремительно расти, газетную работу из-за резко возросшей занятости пришлось вскоре оставить. И расстался он с этой стезёй, как в своё время с усиленной накачкой мышечной массы, без всякого сожаления. Но занятость по комсомольской линии – не главная, однако, причина безболезненного отказа амбициозного Георгия от многообещающей журналистской карьеры. Была ещё одна, более весомая и простая, как «Пионерская правда». Словно в подтверждение справедливости двукратно неудавшегося поступления его на журфак никак, хоть ты застрелись, не шла у него жанровая писанина. Над малейшей рядовой заметкой, не говоря уже о передовицах, приходилось Георгию мучиться ночи напролёт, уходя утром на работу невыспавшимся, злым как собака. И чаще всего без толку. В конце концов, кое-как, с устных, уже по телефону с рабочего места, георгиевых пояснений, о чём должна идти речь, облекала его идеи в письменные строки жена Люська. А он с каждым таким разом всё увереннее освобождался от сожаления о несостоявшемся журналистском студенчестве, примиряясь с неизбежностью выбора профессии попроще.
Ну и хорошо, что не поступил, – успокоительно рассуждал сам с собой Георгий. – Сколько вон людей плохо кончают или просто теряют многие годы на переучивание, жизненную переориентировку, и так далее, из-за однажды ошибочно выбранного образования. Не идёт сочинительство, значит и не нужно ему это. Не лучше ли целиком и полностью сосредоточиться на чём-то таком, что не только наиболее продуктивно в продвижении к вершинам этой бренной жизни, но и хорошо, с лёгкостью получается. То есть на том, что тебе дано, а ещё лучше – дано именно тебе как никому другому.
Поэтому, ляд с ними, брошенными, пусть и после колоссальных усилий на их освоение, спортом и журналистикой. Ведь, чтобы там и там добиться не каких-то поверхностных результатов вроде очередного увеличения мускульной массы тела в первом случае и удачно написанной статейки во втором, а чего-то всамделишно-существенного вроде славы, восторга поклонниц и материальных благ, нужны незаурядные данные и такая же незаурядная работоспособность, отречение от многого во имя результата. А если (Георгий, надо отдать ему должное, достаточно трезво оценивал степень своей одарённости в чём бы то ни было) природа дала тебе не выдающиеся сверхспособности в каких-то конкретных сферах человеческого творчества, а просто хороший ум и крепкое здоровье? Так это-то, наверное, ещё лучше. Вот и радуйся, чудак! На свете столько видов деятельности, где этот не такой уж, кстати, и частый подарок природы – ум плюс здоровье в одном организме – можно применить так, что многие талантливые баловни судьбы могут ведь остаться и позади.
Конкретно же взятому Георгию дадено ума и здоровья, не будем гневить Бога, предостаточно. Во всяком случае для того, чтобы заставить менее умное большинство уважать его, Георгия Ивановича Скоробогатова. А если и не уважать, то хотя бы бояться. Бояться – даже лучше, больше заискивать будут! Как перед тем же прокурором-отцом школьного медалиста.
И отвёз Георгий, не ломая больше голову, документы в приёмную комиссию Всесоюзного заочного юридического института. Партбилет члена КПСС помог и здесь, и ещё до окончания вуза Скоробогатов был уже полноценным Георгием Ивановичем на штатной службе в ОБХСС городского управления внутренних дел (до этого сначала примерный комсомолец, а позже молодой коммунист Скоробогатов сотрудничал с органами лишь нештатно, как тайный, но убеждённый в правоте своего
благородного дела агент-осведомитель).
Службу эту, посвящённую борьбе с хищениями социалистической собственности, он избрал сразу и безоговорочно как самую сытную из всех возможных в данном ведомстве. Поспорить с нею по уровню «левых» доходов могла, пожалуй, только служба ГАИ – государственная автоинспекция, но и то лишь непосредственно в бумажных денежных знаках. По степени же прямого и практически беззатратного доступа к дефицитным продуктам, товарам и услугам – вряд ли: даже самые матёрые «гаишники» в большинстве своём весь сверхдефицит добывали для себя и своих начальников через тех же братьев-«обэхаэсэсников».
Довольно быстро и без особых сложностей Георгий Иванович достиг майорского чина, и через считанные годы после начала службы имел многое из того, о чём когда-то так мечтал: дом – полная чаша с частыми показушно-пышными застольями для знакомых и родственников (друзей у Скоробогатовых почему-то совсем не было), жена – красивая холёная домохозяйка, та самая когда-то юная трудолюбивая заводская секретарь-машинистка, теперь не имеющая ни малейшей необходимости где-то служить, чтобы заработать на хлеб насущный, и полностью посвятившая себя семье – мужу и детям. Дочки – пристроены в престижных учебно-воспитательных учреждениях. Любовницы…







