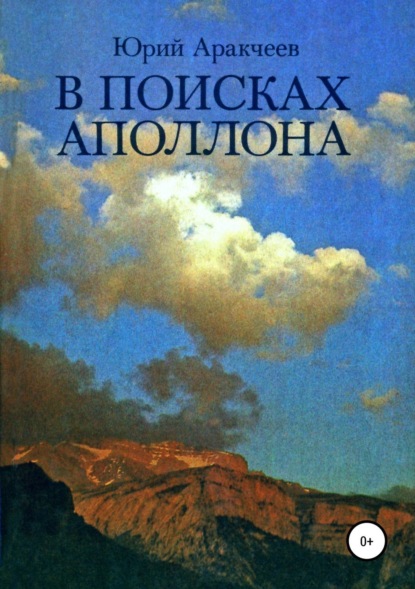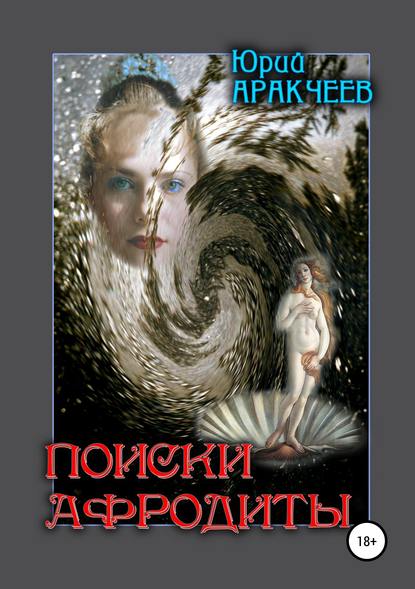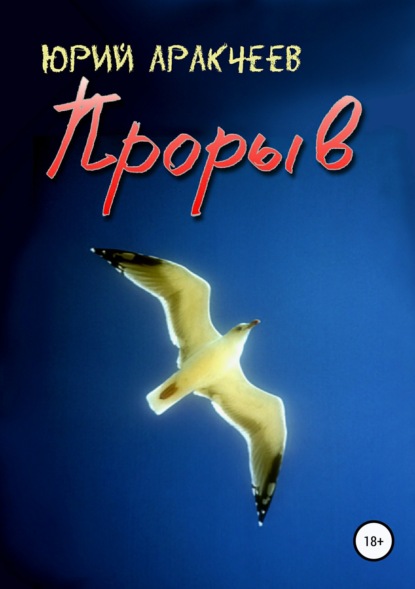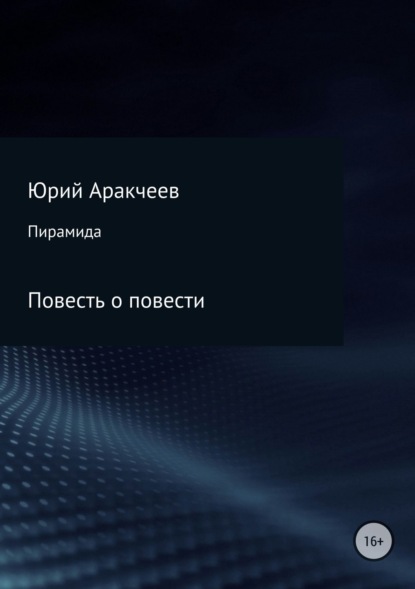Полная версия
Полная версияПолная версия:
Юрий Сергеевич Аракчеев Яркие пятна солнца
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Зимняя сказка
Тикают ходики. На них – половина второго. Ночь. Андрей Гаврилыч уже встал, поблескивает очками, одевается. Керосиновая лампа освещает угол печки, деревянный стол, табуретку. Все кажется желтым. На столе шумит самовар. Хозяйка приготовила его еще с вечера, а теперь встала, кряхтя, раньше всех и разожгла угли. Проснулась кошка и, мяукнув, стукнула об пол всеми четырьмя лапами – спрыгнула с печки. Надо кинуть ей кусочек колбасы.
Андрей Гаврилыч снова опередил меня: выпил чай и уже собирает свой чемоданчик. С нами пойдет хозяин, старик с большой рыжей бородой.
Пальто очень тяжелое – сразу становится жарко. Загремела задвижка. Хозяйка провожает нас с лампой. Пискнула дверь, пахнуло морозным воздухом.
– Эка, вызвездило как! – глухо доносится голос старика-хозяина.
Валенки сухо скрипят по снегу. У нас с Гаврилычем специальные рыболовные чемоданчики на полозьях. Дед ничего не берет с собой – на чем же он будет сидеть около лунки? Мороз щиплет ноздри, сковывает щеки. В избе еще горит огонек. Сейчас хозяйка погасит лампу и ляжет спать.
А мы вступили в огромный холодный мир. Щедро светит луна. Наши голоса звучат тихо, но разносятся далеко, и тишина от этого кажется еще более полной и немного пугающей. Все голубое, и чудится, что все вокруг околдовано лунным светом, что избы, луна, деревья и даже заиндевевшие провода замерли не просто так: они разыгрывают таинственное представление. Темные дома деревни – даже окон не разглядишь – загадочно насторожились. Ни ветерка, ни звука.
Первым шагает дед. За ним торопится Гаврилыч. Его чемоданчик катится мягко, иногда сползает в сторону. Я последний. Дорога блестит призрачным светом, повизгивает слежавшийся снег. Декорации двух цветов – черного и голубоватого…
Мы идем уже очень давно. Луна ушла дальше, скрылась за лесом – у нее там, наверное, другие дела. Но оказывается теперь, что и без луны можно различить спину Гаврилыча, деда с палкой, дорожку. Откуда-то сочится неуверенный свет: робко вырисовываются осинки, мохнатые лапы елей, хрупкие кружева кустарника. Откуда он, этот свет? Может быть, снег начинает светиться?… Становится еще светлее, бледнеет небо – и все теперь просто и ясно.
Справа над верхушками елей начинает краснеть, словно зарево. Или кто-то зажег огромный костер?… Опять – как в сказке: сейчас придет волшебник… В прозрачно-зеленой глубине одна за другой тонут звезды. Снег зеленоватый и тени на нем зеленые. Выплыли из-за леса багряные облачка, выстроились, словно придворные, для встречи Волшебника… Чиркнуло поверху, и загорелись, засверкали заснеженные макушки деревьев. Тотчас ворохнулась какая-то птица на ветке, заверещала радостно. С ветки посыпался снег…
Лес неожиданно кончился. Перед нами, чуть внизу, большое белое поле, ровное и нестерпимо яркое на солнце. Водохранилище. Тысячи, миллионы снежинок – и каждая сверкает отдельно от других, отражает блеск солнца, переливается в его лучах. Множество радуг. Мы спускаемся и идем по нетронутому снегу. На том берегу за четкой строчкой кустов толпятся деревенские избушки. Крайняя изба стоит у самого берега. Блестит заснеженная крыша, из трубы вьется дымок. Он поднимается вверх сизым султаном – примета, что день будет хорошим. А дальше, за деревней, туманная линия леса. Вот он, волшебник – Солнце. Пришел и расколдовал…
Почти у самого берега дед останавливается.
– Начне-о-ом, пожа-алуй, – нараспев говорит Гаврилыч.
– Начне-о-ом! – тянем мы хором.
Становится весело. Гаврилыч плюет на руки и первым начинает долбить лед. Я долблю шагах в двадцати от него. Скоро в лунку с шумом вливается вода. Я достаю удочку, усаживаюсь на чемоданчике, насаживаю на крючок мормышки рубинового мотыля.
Я знаю: предстоит день морозный и яркий. Предстоит день полный чудес.
Чудеса начинаются сразу. Первое чудо – лунка. Ее зеленоватое пятно многозначительно темнеет среди ледяных осколков. Это – окно в неведомый мир. Мне представляется, как там, в тусклой оливковой глубине, среди причудливых зарослей подводных растений, плавают рыбы. Полосатые окуни с красными плавниками, серебряные плотицы, щуки – я видел их во сне. Да-да, я вспоминаю, как именно прошлой ночью в избе видел огромных глазастых рыб, которые с жадностью набрасывались на мою мормышку, дергали во все стороны, мешали друг другу…
На конце гибкого можжевелового удилища поблескивает серый хоботок пружинки. Из хоботка выбегает леска и скрывается в воде. В глубине – мормышка. Все это – от мормышки до моего плеча – представляет собой чуткий механизм: стоит рыбе коснуться наживки – пружинка качнется, и рука мгновенно сделает подсечку. Однако поклевки почему-то нет.
Я смотрю вокруг. Все так ярко, что больно смотреть. Слева от меня, сгорбившись, сидит Гаврилыч. Он неподвижен: вероятно, тоже нет клева. Дед стоит сзади, шагах в двадцати, и сосредоточенно «блеснит». Кусочек бороды его освещен солнцем и горит так, что мне кажется: деду жжет подбородок.
Вдруг рука моя ощущает слабый толчок. Механизм срабатывает, и я чувствую, как натянулась леска… Подпрыгивает сердце, останавливается и, лишь когда я вытаскиваю маленького окунишку, начинает снова биться. Он невзрачный, полосатый – граммов на двадцать – однако это «почин». Я отцепляю его от мормышки, небрежно бросаю рядом с лункой. Этот бойкий подводный житель, который теперь весь извалялся в жемчужном снегу, – второе чудо.
Но больше ни поклевки. Я тупо смотрю на пружинку, подергиваю удочкой, чтобы раздразнить воображаемых рыб, но это не дает результатов. И чудеса начинают блекнуть. Лунка – никакое не окно, это просто отверстие во льду, причем вода мутная, а на голом и мертвом дне подо мной, вероятно, много вязкого ила. И вообще-то рыб очень мало в этом водоеме, а те, которые все-таки есть, плавают неизвестно где – попробуй, отыщи их. Солнце – да, но в конце концов от него уже начинают болеть глаза. И зачем столько света? К тому же спать хочется.
Вспоминаю, что надо поесть, открываю чемоданчик, достаю булку с маслом, сахар, щурясь от солнца, ем. Света столько, что невозможно смотреть. Голубое, розоватое, белое… Ослепительное. И радость вдруг просто переполняет меня – остановись, мгновенье!…
Хозяин-дед убежал куда-то вместе со своей бородой… Андрей Гаврилыч встает, долбит другую лунку, ближе к берегу. Продолбил, сел…
Я встаю тоже, прыгаю по снегу, чтобы отогрелись ноги и свысока смотрю на свою «добычу» – ее и разглядеть-то трудно в снегу, – жую всухомятку булку и мечтаю теперь о лете, когда не нужно будет надевать эту тяжелую шубу и прыгать, чтобы согреться. От этой мысли становится еще радостней – впереди лето, впереди аромат листвы, песни птиц, поплавки на воде, теплый ветер! Смотрю на Гаврилыча…
Познакомились с ним не так давно, в электричке. Впервые с приятелем отправлялись на подледную рыбалку – наслышались, начитались… – но проспали и не успели дома толком собраться. Расположились на гладком желтом сиденье электрички, старательно привязывали мормышки к лескам и не обратили внимания на пожилого щуплого мужичка с пешней и чемоданчиком – он сидел тихо напротив. Мормышки мы привязывали, как оказалось, неправильно – жалом крючка вниз, и рыбацкое сердце нашего соседа напротив не выдержало…
Мне двадцать пять, работаю на заводе, токарь. Мои станки – это механический мир, и частенько мне кажется, что и станки, и вообще всякие железные механизмы – отчасти живые… У каждого свой характер, капризы, причуды… Хорошо работает любой механизм лишь тогда, когда ты обращаешься с ним по-человечески, с уваженьем, с любовью… Вообще мой завод – это мой мир, и сейчас, глядя на Гаврилыча, сидящего терпеливо над лункой, я думаю, что у него совсем другой мир – он реставратор, художник. Мы с приятелем были у него в мастерской, она в старой церкви: густой сад, окружающий церковь, ограждает ее от городского суетливого мира. Я был у него и дома: живет он один, его комната – тоже особый мир, с удочками, фотографиями, потрепанными географическими картами, картинами, канарейкой в клетке, рыбками в аквариуме, двумя кошками и собакой…
Я прямо-таки влюблен в Гаврилыча. По голубой и скрипучей ночной – волшебной! – дорожке он привел меня в этот чудесный сверкающий мир, чтобы отмыть, очистить – как он отмывает, осветляет потемневшие от времени картины… Я влюблен в него, и несмотря на то, что ну абсолютно нет клева, я смотрю на него с благодарностью…
Но вдруг вижу: что-то странное творится с волшебником-реставратором. Он суетится на своем чемоданчике, взмахивает нелепо руками, и вообще маленькая скрюченная фигурка его выражает азарт, энергию, чуть ли не боевой задор. В чем дело?
Наконец сердце мое подпрыгивает – я догадываюсь! – немедленно бросаю на снег недоеденную булку, хватаю пешню, удочку, бегу, неуклюже вскидывая ноги, чтобы не упасть, все-таки падаю, теряю и нахожу удочку, опять бегу, задыхаясь… Наконец – «на втором дыхании» – прорублена лунка, голыми красными руками лихорадочно вычерпаны шуршащие, скользкие ледяные осколки (оставил на старой лунке черпак!)… Вот оно! Я не успеваю даже насадить мотыля – скрюченные пальцы не слушаются – и ловлю на высосанные лохмотья: таскаю одного за другим ленивых, толстых окуней, зеленых, с черными поперечными полосами… Окуни разевают рты, ловят воздух, шуршат, ворочаясь на снегу, а грудные алые плавники их светятся, горят на солнце, словно тайные сокровища подводного царства…
И теперь мне снова ясно, что подо мной в глубине – золотое песчаное дно, а в прозрачной воде среди изумрудных зарослей плавают большие красивые рыбы. Множество разных рыб… Солнце просвечивает сквозь заснеженный лед, и в золотом свете его – все как в сказке…
Однако чудеса недолговечны. После одной из поклевок я погорячился, потянул резче, чем следует, натяжение лески вдруг ослабло, и я понял, что это – обрыв. Пока бегал к чемоданчику, оставленному около старой лунки, окоченевшими пальцами привязывал новую мормышку, неловко насаживал мотыля, стая окуней, очевидно, ушла с этого места. Напрасно я, затаив дыхание, ждал, пытался всячески раздразнить рыбу новой мормышкой. Поклевок не было.
У Андрея Гаврилыча тоже кончился клев, мы пробили еще несколько лунок, пытаясь нащупать стаю, однако все бесполезно. Солнце поднялось высоко и уже припекало спину. От валенок поднимался пар.
Я сижу на своем чемоданчике и смотрю в небо. Плывут облака, медленно, легко. Я хотел бы полетать в небе.
Андрей Гаврилыч тоже смотрит на облака. Он пожилой человек, много видевший, и мне очень хотелось бы узнать, о чем он думает, глядя в небо? Что видит там? Хочется ли ему полетать?
Я приеду сюда летом. Со мной, думаю, будет Она. Найду, конечно же, встречу… Ночью мы разожжем костер. Потом увидим восход солнца. Вместе. Утром уплывем на лодке в туман… Это еще одно чудо. Она будет чудом…
Хозяин-дед собирается домой. Он ничего не поймал – бегал где-то, пока мы с Гаврилычем орудовали со стаей, – и смеется вместе со своей бородой. Мы остаемся. Я легко отдаю ему свою рыбу. Мы надеемся, что будет клевать вечером.
Но вечером не клюет.
Солнце садится. Небо теперь голубое с золотым отливом. Тихо. Лишь из деревни на берегу доносятся знакомые звуки – голоса людей, лай собак, монотонное тарахтение трактора. Время от времени вдруг раздается сильный глухой треск: бухнет, прокатится до леса на берегу и замрет. Потом опять… Лед оседает.
Клева нет. Я знаю, что надо бы поискать в другом месте, продолбить новую лунку. Но мне не хочется. Гаврилыч уже далеко. Его маленькая фигурка неутомимо носится по снежной плоской поверхности. Вот он остановился, разбросал снег. Машет пешней… До меня доносятся слабые удары: тук-тук… И вдруг опять бу-у-хх! Дрогнула вода в лунке.
Как далек сейчас город с его огнями, суетой, шумом. Как далек мой завод… Тишина, покой. Здорово!
Мы ночуем в избушке на берегу. Хозяйка – голубоглазая женщина средних лет, темноволосая, крепкая. Она вдова, без мужа вырастила двоих: сын работает в вечернюю смену – мотористом на теплостанции, – дочь школьница ушла в соседнюю деревню смотреть кино. Имя хозяйки самое обыкновенное – Мария Ивановна. Она поит нас парным молоком, ставит на стол чугунок с дымящейся картошкой, соленые огурцы.
Мы в крошечной избушке, затерянной в огромном заснеженном мире. Сказка продолжается. Завтра нам предстоит еще день.
Я засыпаю быстро. Ночью мне ничего не снится.
И наступает завтра…

Запах берез
Был июнь. Меня всегда будоражат июньские длинные дни, а когда они проходят, становится грустно. Наступает душный июль, затем август со своими прохладными звездными ночами, дождливый сентябрь… а там и зима… На следующий год все повторяется, и – опять ожидание весны, волнение, «охота к перемене мест», июньские долгие дни и робкие ночи… Надежды, фантазии… И чувство чего-то несбывшегося.
Мне было двадцать, я работал на установке декораций в оперном театре. Воскресенья и праздники для нас всегда были самыми напряженными днями: шло по два спектакля. Бывало, выгородишь вечером сцену и смотришь в зал сквозь специальное окошко в занавесе на людей, ожидающих, праздных. А когда начиналось действие, я садился где-нибудь в углу за кулисами, слушал музыку и певцов, потом выходил из театра и шагал по Театральному проезду. Шумный и праздничный, он пестрел людьми, огнями…
Отдыхали мы в понедельник. Хотя он и не был для нас «тяжелым днем», но почему-то, как правило, в наш выходной с утра портилась погода.
Но в тот памятный мне июнь погода изо дня в день стояла великолепная…
В одно из воскресений вечером я по старой, школьной привычке решил провести свой выходной день на рыбалке. Принес с чердака заброшенную рыбацкую сумку, удочки, и около часа ночи вышел из дома.
У метро стихало воскресное оживление. Люди расходились, разъезжались по домам, прощались – все еще праздничные, нарядные в ярком электрическом свете. А я – одетый в поношенную штормовку, с потертой сумкой и с удочками – был уже не от мира сего.
В пустых по-ночному вагонах метро дремали одинокие пассажиры, устало светили лампы, медленно набирал ход, мчался машинально и, не спеша, останавливался сонный поезд.
Среди полутемных платформ вокзала я нашел свою электричку, сел в вагон. У горизонта уже начинало светлеть. Когда вагон дернулся и привычно застучали колеса, я прислонился к стенке и задремал.
Что было потом?
…Я шел по длинной пустой дороге. По обеим сторонам ее стояли дома, серые, равнодушные и тоже пустые. Уже рассвело. Руки мои в неуверенном, робком свете были чуть фиолетовыми и холодными – так всегда бывает в ранние утра.
Дома скоро кончились, начались поля, овраги, кустарник. Я казался себе маленьким и одиноким, я ощущал беспредельность земли: все эти пригорки и овраги, поля и леса, болота и реки на обширной поверхности, уходящей за горизонт.
Надо мной бесшумно, неотвратимо свершалось непременное: менялись краски, розовело небо, и я ощущал, я чувствовал, как огромная наша планета медленно поворачивается, подставляя остывший за ночь бок солнцу.
Не чувствуя ног, я летел, как на крыльях, и воздух переполнял легкие. В кустарнике у дороги щелкали соловьи.
Потом был ослепительный день. Искрящаяся рябь на воде, убаюкивающее покачивание, непрестанный плеск волн о лодку, словно кто-то легонько постукивает о ее дно, солнце, солнце и душистая тень прибрежного леса. Отчего так пахнет в гуще берез? Я нюхал ветки, растирал листья между ладонями. Откуда этот цветочный запах, когда вокруг нет цветов?
Я плыл по большому водохранилищу с его бесчисленными притоками, бухтами, островками; приближался к берегу там, где над тихой водой свисали ветви деревьев, пробовал ловить рыбу, хотя клева не было. Я наломал веток лиственницы с прошлогодними сухими шишками и поставил их в бадейку для рыбы, затем добавил еще веток березы… Лодка моя была моим домом, крошечным плавучим островком – пусть не скорлупкой, затерянной в волнах океана, но все же бесконечно одинокой среди заливов, проливов и плесов. Я пристал к острову, ходил по нему, как Робинзон, но остров оказался слишком малым, к тому же он был наполовину затоплен, и несколько деревьев, растущих на нем, стояли в воде. Возле стволов плескалась, выпрыгивая из воды, рыбья мелочь. Я опять сел в лодку, поплыл…
У одного из берегов обнаружил маленькую уютную бухту. Вылез на берег, разделся совсем и теперь ходил в зарослях, как первобытный человек, оглядываясь, правда, чтоб не попасться кому-нибудь на глаза. Здесь росла лиственница, большие кусты рябины, необыкновенно крупно цветущий боярышник, мощные, раскидистые акации, не было привычной осины, ели, сосны. Сказочные, волшебные кущи… Птицы кричали наперебой, а у меня кружилась голова. Я чувствовал себя пьяным от теплоты, от воздуха, пахучего и густого, я не ощущал своего тела – я растворился в окружающем…
Потом купался, сойдя по острым камням в теплую, ласковую воду залива. Плыть было необыкновенно легко. Я переворачивался на спину, закрыв глаза и лицом ощущая прикосновения солнца, нырял в зелено-желтую тусклую глубину, а оказавшись на поверхности, вновь радостно отдавался слепящему свету и находил глазами уютную бухту и лодку в тени акаций. Счастье, настоящее счастье…
Когда надоело плавать, медленно вышел на берег. Крупные капли воды, словно драгоценности, сверкали на моей груди и плечах. Я несколько раз глубоко вздохнул, и захотелось двигаться, бегать, казалось, необыкновенная сила переполнила тело, еще немного – и тогда уже, точно, можно будет взлететь… Да, странно, конечно, выглядел я со стороны – городской человек, полностью обнаженный, охмелевший от обыкновенного воздуха, света.
Но вот к моему берегу пристала лодка. Женщина осталась сидеть на корме, а мужчина вышел на берег и вежливо спросил у меня, где находится устье реки Катыш. Он был худ и бледен, этот молодой мужчина в трусах, а я… О, я уже считал себя диким человеком! Я объяснил ему, но, вероятно, не мог скрыть легкого своего презрения, потому что он как-то странно смотрел на меня, потом быстро прыгнул в лодку, и они с женщиной поспешно отплыли. А я опять остался один, один среди природы, маленькая, переполненная благодарностью ее частичка…
Были еще купания, странствия по своим владениям, отдых в пятнистой тени дерева. Потом я вдруг почему-то решил, что пора ехать домой. Легко и быстро работал веслами, пружинисто сгибаясь и разгибаясь, и лодка моя летела. Удалилась бухта, тень акаций, долго была видна еще большая береза на берегу, потом все сравнялось в темно-зеленую полоску, и стало грустно. Захотелось вернуться. Я развернул лодку, она закачалась часто и беспокойно, заплескались волны, солнце теперь стало бить в лицо, я взмахнул веслами несколько раз… Нет, не надо! Пусть останется все, как было, пора действительно ехать домой.
И опять полетела моя лодка, я обгонял других рыбаков, а выходя на берег у рыболовной станции, старался сделать вид, что в сумке у меня кое-что есть. Единственную плотвицу, пойманную утром на хлеб, я давно уже выбросил в воду.
В трех километрах начинался маршрут автобуса, который ходил до железнодорожной станции. Я свернул с дороги, чтобы продлить немного свой путь, но, опьяненный ароматом берез, незаметно удалился в сторону, отчего, когда вернулся на шоссе, оказалось, что до остановки автобуса остается все еще около трех километров.
Теперь опять шел быстро, но уже по пыльной, горячей дороге, и проезжающие машины обдавали песком и гарью. Успел на автобус, который вот-вот собирался отойти, автобус тронулся, загромыхал, пыль полетела во все щели так, что вокруг сделалось тускло, и стало ясно: волшебство рассеялось, теперь опять будет город.
А ночью поднялась температура. Кожа на всем теле горела так, что невозможно было лежать. Жар усиливался, голова была словно чужая, я терял сознание, бредил. Какие-то видения мелькали перед глазами… Солнечный удар. Расплата.
Но все прошло.
Отчего, отчего так пахнет в гуще берез? Откуда этот цветочный запах, если вокруг нет цветов?
Тот давний июньский день был одним из счастливейших дней моей жизни.

Листья
Летний солнечный день. Загородное шоссе: горячий сухой асфальт с россыпями щебня по обочинам – от него хрустит под ногами, – редкие автомашины, что с шумом деловито проносятся мимо нас, навстречу и обгоняя, маленькие дачные домики по обеим сторонам шоссе, глубокая яма справа, плавные подъемы и спуски, овраг с ручейком и мостиком впереди.
Нас трое: Рита, Светлана – «Светик», Славкина подруга, – и я. У Риты ярко-красная юбка, белая блузка и туфли на высоком каблуке. Они подворачиваются, когда кусочки щебня попадают под ноги, и Рита морщится, смеется, я вижу, что она устала, и мне хочется нести ее на руках.
Мы приходим на недостроенную Славкину дачу – Славка встречает нас, с ним его брат Алик, – начинаются обычные, долгие и нескладные хлопоты дачников-горожан: ходим за водой, разжигаем примус, зачем-то ставим кипятить чайник, который так и не понадобился. Спускаемся в овраг к ручью, чтобы умыться, возвращаемся, налаживаем магнитофон. Мы садимся за стол пятеро – «пятый лишний» Алик, Славкин брат, – пьем вино из чашек и стаканов, потому что рюмок нет, подшучиваем друг над другом, смеемся.
Потом мы шумно собираемся гулять по оврагу – овраг большой и глубокий, он весь порос густыми, труднопроходимыми зарослями осины, ольхи, орешника и большими деревьями – сосной, березой, – в пяти шагах там ничего не видно. Первыми уходят Славка со Светиком, затем куда-то таинственно скрывается Алик, а Рита почему-то остается, садится на кровать и говорит, что у нее кружится голова, но «это сейчас пройдет», и тогда она найдет нас.
Она не смотрит на меня, отворачивается, закрыв руками лицо. Почему это, а? Может быть, она на меня обиделась? За что?! Но я сажусь рядом и участливо спрашиваю, что с ней такое. Она не отвечает, я сижу с глупым видом, не зная, что делать. Потом, наконец, она молча встает, и мы идем.
Мы идем по тропинке, которая вьется по склону среди бугров и берез. Рита ведет себя опять непонятно, а когда я показываю ей кривую березу, один из стволов которой, седой и толстый, повис горизонтально над склоном, – она смеется странно и говорит, что у нее в туфель попал камешек. Она спускается к ручью, пока я чинно сижу у кривой березы. Наконец, я слышу, как она зовет меня от ручья, но почему-то не двигаюсь – зачем она от меня убежала? – и вот уже ее не слышно, а когда, продравшись сквозь заросли, я подхожу-таки к ручью, ее там уже нет. Теперь я кричу, но она не отзывается – скрылась куда-то…
У меня немного болит горло – недавно болел, – и чуть-чуть кружится голова, потому что давно не был за городом; день жаркий, солнце россыпью ложится на листья кустов – это напоминает мне что-то, сказку из сна, – и вот я уже отрешенно бегу по берегу ручья, продираюсь сквозь кусты напролом, пригибаюсь, где нужно, прыгаю через склоненные ветви – и листья шумно и хлестко бьют меня по лицу, мне уже трудно, больно дышать, и передо мной то вспыхивает солнце на ветках, то веет угрюмой сыростью из-под густоты кустов, и в ярко-зеленые пятнистые полосы сливается множество хлещущих и щекочущих, жестких и мягких, остро пахнущих, зовущих, пьянящих листьев.
Я бегу долго – и тайна ручья раскрывается мне. Я вижу, как кончаются густые заросли по его берегам – он течет уже по равнине. На другом берегу – большие засеянные поля, на этом, моем, берегу – длинное здание фермы, домик, где живет, вероятно сторож, и стадо коров. Я нашел себе какую-то палку и теперь иду, словно странник в незнакомой стране, опираясь на посох, смотрю по сторонам, вижу небо и солнце и жду чего-то. И хотя я все еще перевожу дух от бега и от неприятной обиды – куда она скрылась-то? – в груди печет, в горле тоже, но я – счастлив. Смело прохожу сквозь коровье стадо и с сознанием собственной значимости, бывалости постукиваю палкой по дороге.
Навстречу идут люди. Кто они, откуда? Они проходят мимо, но я слышу их разговор и догадываюсь: торопятся на электричку. «Какая здесь станция поблизости?» – буднично спрашиваю вдогонку. Они отвечают, и я понимаю, что пробежал совсем немного – меньше одной остановки поезда… Всего-то… И вновь ныряю в зеленые заросли, в листья, бегу назад по ручью… И опять все забыто, и я, кажется, пою что-то – песни, которые вспоминаются сами собой. Летят мимо меня листья зеленой пятнистой полосой, они хлещут и гладят меня по лицу, и словно опять зовут, зовут…
Но в глаза мне сверкает красным. Рита! Она сидит в своей красной юбке на пенышке у края оврага и спокойно, с улыбкой смотрит на меня сверху.
Останавливаюсь нехотя, взбираюсь по крутому склону, цепляясь за корни, и сажусь недалеко от нее, на траву. «А я думала, уж не медведь ли. Такой треск стоял…» – говорит Рита и смотрит с улыбкой. «Как видишь, не медведь», – отвечаю хмуро. Мы сидим некоторое время молча. Потом поднимаемся и вместе идем на дачу. У тропинки нам встречается маленький шалаш, крытый еловыми ветками. Я останавливаюсь, заглядываю в шалаш, пробую его прочность. «Какая прелесть, – говорит Рита. – Правда?» – «Хороший шалаш», – соглашаюсь угрюмо, и мы идем дальше.