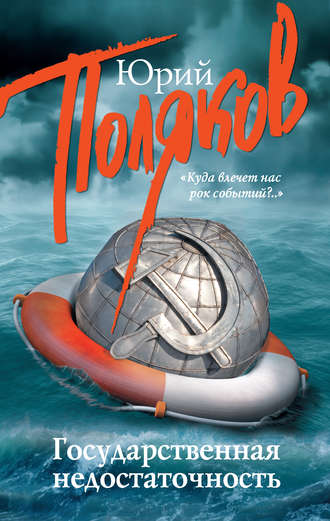
Юрий Поляков
Государственная недостаточность. Сборник интервью
Апофегей союзного масштаба
– Юрий Михайлович, ваши повести «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», увидевшие свет на страницах журнала «Юность» с наступлением гласности, сразу стали не только фактом литературы, но и мишенью для ожесточенных нападок со стороны многочисленных оппонентов, некоторые из которых не могут успокоиться до сих пор. Появившийся чуть позже в том же журнале «Апофегей» уже не вызвал столь бурной реакции, хотя в нем довольно откровенно показана скрытая от многих глаз жизнь партийных функционеров. А опубликованная летом – осенью этого года «Парижская любовь Кости Гуманкова» на фоне нашей усложняющейся и ужесточающейся с каждым днем жизни вообще выглядит милым анекдотом на любовно-идеологическую тему. Такое снижение политической, социальной остроты ваших произведений – случайность, дефицит «закрытых» тем или свидетельство изменения некоторых гражданских, писательских позиций?
– Начнем с того, что моя первая повесть «ЧП районного масштаба» появилась в самый канун наступления гласности, зимой 1985 года, и появилась благодаря настойчивости конкретного издания – журнала «Юность», благодаря твердости позиции конкретного человека – главного редактора журнала Андрея Дементьева. Нынче многие литераторы не любят вспоминать тех, кто помогал им преодолевать «препоны и рогатки цензуры», скромно ссылаясь исключительно на свой талант и личное мужество. Кстати, если кто-нибудь думает, что сегодня цензуры не существует, то он заблуждается, просто она стала тоньше и безнравственнее, потому что у тех застойных «непускателей» с Китайского проезда была инструкция, утвержденная наверху, а у нынешних, как правило, личные и глубоко осознанные мотивы. Например, недавно меня пригласили поучаствовать в «Пресс-клубе» Авторского телевидения. И что же? Через неделю я наблюдал на экране свою безмолвную физиономию: ничего из сказанного мной в эфир не попало. Вот такая, понимаете ли, авторская цензура.
Что же касается, как вы говорите, снижения остроты моих последних вещей, то это совершенно естественный процесс. Эпоха «разгребания грязи» и «срывания всех и всяческих масок» заканчивается. Людям интересно читать о жизни, а не о грязи. Кроме того, «разгребателем грязи», или «чернушником», я себя никогда не чувствовал, а просто темы – комсомол, школа, армия, к которым я, следуя своему личному опыту, поначалу обратился, были настолько замифологизированы и затабуированы, что любое слово достоверности воспринималось читателями как откровение. Придуманной действительности социалистического реализма достоверность была просто не нужна, и в известной степени литература первых лет гласности была возвращением к нормам критического реализма. Точность – вежливость писателя. Увлекательность, кстати говоря, тоже. Это мой принцип. Кроме того, по моему убеждению, с возрастом писатель должен становиться добрее: чем глубже вникаешь в жизнь, тем терпимее становишься. От объявления, скажем, всех партократов монстрами до концлагерей всего один шаг. Кстати, сочувствующие мне читатели смогут проследить эту мою внутреннюю эволюцию по трехтомнику, который готовится к выпуску Санкт-Петербургским отделением издательства «Художественная литература» и «Библиотекой для чтения».
– В таком случае можно сказать, что в вежливости вам не откажешь. Хотя «вежливость» писателей в последнее время стала притчей во языцех. Правда, в данном случае имеется в виду не увлекательность их произведений, а яростный дележ власти, размежевание на лагеря, союзы. Каково ваше отношение к этому процессу и к какому «берегу» вы примкнули?
– Еще два года назад я считал, что разделение писателей на различные союзы, клубы необходимо, поскольку очень сильно разнятся их политические взгляды, идеологические позиции. Мне казалось, что такое размежевание будет способствовать примирению, так как люди окажутся в родственном окружении, страсти улягутся. Сейчас я вижу, что разделение приводит к еще большей конфронтации и, что меня более всего беспокоит, к новой политизации литературы.
Одну большую соцреалистическую клетку, выстроенную сталинизмом для литературы, многие писатели сменили на клетку поменьше и искренне считают, что свобода творчества заключается в свободе выбора клетки. Хорош писатель или плох, критике, как правило, все равно, ее гораздо больше интересует, свой он или чужой. Если свой, любая абракадабра тут же квалифицируется как новое слово в отечественной словесности, если чужой, то никакая художественность и читательская любовь не спасет автора от презрительно оттопыренной литературно-критической губы. И левые и правые в этом смысле одинаковые. Ладно еще, когда речь идет о служении какой-то политической идее, но, как правило, это просто мелкое прислуживание конкретной и сиюминутной политической группе.
Конечно, я не наивный юноша и сознаю, что абсолютную независимость в этом пронизанном всеобщей взаимозависимостью мире литератор сохранить не может, но ту внутреннюю свободу, о которой говорили классики, обязан. Подозреваю, нынче это нужно писателю не менее, а может, и более, чем в застойный период.
– Ваша творческая позиция довольно крепка, о чем можно судить хотя бы по тому, что прозу Юрия Полякова хорошо знают не только русскоязычные писатели, но и любители литературы за рубежом. Однако, как мне кажется, не все ваши вещи – «переводные». Думаю, зарубежным читателям будут непонятны некоторые реалии нашего бытия, сложности, с которыми сталкиваются герои, особенности их мышления и разговора. Как преодолевается этот барьер?
– Зарубежные страны – это не однозначное понятие. Если говорить о странах бывшего социалистического лагеря, то там читателям, полагаю, хорошо понятно все, о чем я пишу. Американцам или французам, конечно, понять нас труднее. Но сверхзадача писателя заключается в том, чтобы создать в своих произведениях такой уровень художественности, ради постижения которого зарубежные читатели старались бы понять и реалии нашего быта. Но это, конечно, очень трудно, почти невозможно…
Многие мои переводчики жаловались, что непросто сохранить особенности языка, найти аналоги для специфических выражений, игры слов. Никому так и не удалось найти эквивалент названию повести «Апофегей». Ведь это словечко, придуманное героиней, – не просто гибрид слов «апофеоз» и «апогей», это – образ жизни и мышления.
Но, честно говоря, это меня совсем или, точнее, почти не огорчает, потому что мой читатель, ради которого работаю, читает по-русски. И мне смешны некоторые мои коллеги, превратившиеся в коммивояжеров. Растолкав свои книжки по двадцати странам, они серчают на соотечественников, не желающих читать их работы. Конечно же они уверены, что виноваты соотечественники, грубые и нелюбопытные. Но я-то полагаю, что все как раз наоборот.
– Ваш «Апофегей» написан в 1987–1988 годах. С тех пор многое изменилось. В чем вы видите «апофегей» нашего времени?
– Наш «апофегей» заключается, на мой взгляд, в том, что люди, которые после упорной борьбы положили наконец руки на рычаги власти, гораздо лучше знают, как отстранять от этих рычагов своих противников, чем как при их помощи управлять страной.
Второй раз за столетие в пылу борьбы за власть разрушается то, чего ни в коем случае нельзя трогать, – так называемые государственные устои. Это похоже на то, как если бы противоборствующие силы в Голландии взорвали все дамбы и плотины, – страна, находящаяся, как известно, ниже уровня моря, была бы залита водой, и погибли бы все.
У кого-то, конечно, есть спасательные катера и даже яхты, кто-то уже успел «катапультироваться» за рубеж. Но у основной массы нашего народа нет даже спасательных кругов. И я, как многие, кто никуда не собирается «уплывать», смотрю на все это с тоской.
– Неужели вы не верите в спасение во время этого всеобщего «потопа»?
– Мне не остается ничего другого, как верить. Когда-то, еще молодым, «зеленым» студентом, я все допытывался у представителей дореволюционной интеллигенции, оставшихся в живых потомков дворянских семей: «Как же вы поверили большевикам, их вранью?» А теперь я понимаю – у них было безвыходное положение. Надо было верить в силу и успех новой власти. Только так можно было выжить. Наверно, и сейчас ситуация похожая. А ведь я еще принадлежу к той небольшой части нашего общества, которой перестройка принесла улучшение жизни. Для меня – это книги, спектакли, фильмы, и как результат – известное улучшение материального положения моей семьи. Но я, выросший в московском заводском общежитии и до конца не порвавший связей с этой средой, вижу: положение тех, кого старая пропаганда именовала «трудящимися», просто отчаянное. Телевизор – не холодильник, и бесконечными банкетами-презентациями на экране сыт не будешь. Просто какая-то чудовищная отечественная традиция: социализм строили за счет ограбления простого человека, капитализм начинаем строить за счет того же самого. Одним словом: «Белые приходят – грабят, красные приходят – грабят. Куда ж крестьянину податься?» А куда в таком случае подается «крестьянин», очень хорошо известно…
– Вас не пугает понятие «капитализм», который мы сейчас, как вы сказали, строим? Многие наши политические деятели предпочитают говорить о «социализме с человеческим лицом», или о «шведском социализме».
– Конечно, давать название неведомому пока еще нашему будущему строю сейчас опрометчиво. Мы так и не поняли до сих пор, в каком строе жили. Но, судя по всему, возникает нормальное классовое общество. Этого термина я не боюсь. История доказала, что эксплуатация человека человеком более эффективна, чем эксплуатация человека государством.
Но я боюсь, что мы опять получим не возникшую естественным образом общественно-экономическую структуру, а нечто спешно сколоченное, как раньше – социализм. Прежде говорили: построим социализм за две-три пятилетки! Сейчас призывают построить капитализм за 500 дней, за год… Та же штурмовщина, тот же чисто большевистский подход к истории, которую пытаются перекроить по законам, кажущимся в настоящий момент более перспективными.
Я не хочу сказать, что знаю истину в последней инстанции. Но я уверен, что действовать теми же методами, что раньше, нельзя. Если не на чужих, то хоть на своих ошибках учиться надо.
Человеческой натуре вообще присущи одновременно и капиталистическое, и социалистическое начало. И во взаимодействии, равновесии этих начал, очевидно, может возникнуть некая общественная гармония. В Швеции, часто приводимой в пример, сейчас началось наступление на социализм. Конечно, он дает какие-то равные возможности всем гражданам, но в то же время приглушает энергию человека, его инициативу. Надо как-то контролировать соразмерность в обществе двух этих компонентов – социализма и капитализма. Однако это возможно лишь тогда, когда отлажены все общественные механизмы, а этого наскоком не добиться.
Нельзя забывать, что в нашей стране за 70 с лишним лет вследствие целенаправленного идеологического воспитания социалистические элементы сознания у людей преобладают. Объяснить миллионам людей, воспитанным на социалистических ценностях, что молодые предприниматели, играющие в «римский клуб», по-своему правы, невозможно. Допустим, я, привычный к отвлеченному мышлению, социологическому моделированию, могу представить, что уже следующее поколение новых Артамоновых будет другим. Но человек, который, глядя на «роскошную» жизнь нового класса, не может отоварить свой единственный талон на водку или сахар, этого не поймет.
Мы долго издевались над системой американских жизненных стандартов. А ведь благодаря этим стандартам американцы сумели примирить непримиримое – различные слои общества. Система налогов, социальные гарантии и другие усилия государства направлены на то, чтобы дать возможность большой части населения поддерживать вполне приемлемый уровень жизни. Понимаете, антагонизм между человеком, имеющим старенький поломанный «Запорожец», и владельцем «Мерседеса» меньше, чем между теми, кто имеет хоть какую-то машину, и кто совсем ее не имеет. А у нас сейчас именно такая ситуация: при резком падении уровня жизни еще и резкая поляризация имущих и неимущих. Это – естественный процесс изменения в экономике, но в данном стремительном имущественном расслоении уже таится колоссальная угроза для нынешней власти.
– Многие экономисты и политологи считают, что в возникшей сейчас критической ситуации нас сможет спасти активное привлечение в экономику иностранного капитала. Другие же в этом видят «распродажу» Москвы и всего государства. Каков ваш взгляд на эту проблему?
– Я не специалист в экономических вопросах. Но мне кажется, что сам факт привлечения иностранного капитала пугать не должен – так поступают многие государства. Важно – для чего все это делается? Если для того, чтобы мы могли усовершенствовать наше отсталое производство, закупить необходимые товары народного потребления и продукты, – то пожалуйста. Но совсем другое – если доллары используются для того, чтобы очередной наш нувориш набил карманы и, отослав свой депутатский значок президенту, отбыл на место жительства за рубеж. Здесь должны строго действовать новые государственные структуры, если они действительно стоят на защите интересов государства и своих граждан.
Мы долгое время играли в интернационализм, когда наше государство преподносилось лишь как звено в мировой системе социализма. Наигрались, разорили страну. Сейчас пришло время разумного государственного эгоизма. И если учиться у Америки, то не только тому, как делать жевательную резинку, а тому, как надо блюсти государственные интересы, которые там – превыше всего. И свои отношения с новыми суверенными государствами, на мой взгляд, надо строить с тех же позиций. И свободолюбие нужно оплачивать из своего кармана, а не из кармана соседа.
– Сейчас очень трудно понять, в каком государстве мы живем – СССР, ССГ, СНГ… Каждый день приносит новые сюрпризы. Недавно, проснувшись, мы узнали, что живем уже не в Центре, не в столице Союза, а просто в Москве. Как вы, коренной москвич, к этому отнеслись?
– Москва – это такой исторический и геополитический центр, что от перемены расположения каких-то присутственных мест ничего не изменится. Для меня гораздо важнее географической символики те исконно российские земли, которые в результате административного идиотизма оказались по другую сторону намечающихся границ между суверенными государствами. Земли предков – это не торт с надписью «Дорогому другу в день рождения!». Съел – и забыл. Забыть могут политики. Народ помнит всегда. И припомнит…
Беседу вела Л. ФОМИНА«Московская правда», 21 декабря 1991 г.
Интервью 1992-1994
Даже раб, проведший молодость на галере, вспоминает не только плети и цепи, но и красоту моря, и соленый ветер в лицо
– Юрий, Михайлович, на дворе лето, как говорится, перезимовали… Как чувствует себя писатель Поляков? Скажите, надеетесь вы на лучшее?
– Конечно, проще всего ответить классической формулой: пока живу – надеюсь. Но если говорить откровенно, нынче для меня время тревожного ожидания и мучительной раздвоенности. Мы все мечтали о переменах, но любая реформа – это скальпель, которым можно и спасти, и зарезать. Все зависит от того, как относиться к человеку, ведь от настойчивых призывов потерпеть до общеизвестного «лес рубят – щепки летят» не так уж далеко.
Меня пугает та нетерпеливая поспешность, с которой нас гонят теперь уже из социализма в капитализм, но все той же железной метлой. «500 дней» и «пятилетка в четыре года» – это, увы, очень похоже. Я вообще считаю, что большевизм – никакое не «политическое течение». Это политический метод, суть которого в пренебрежении нравственностью и человеческими судьбами ради победы, успеха, торжества идеи – не важно какой. Большевиком может быть и коммунист, и демократ, и монархист… Я с ужасом вижу, как иные нынешние деятели «большевеют» на глазах. Боже, как все повторяется: та же грызня между вчерашними соратниками, те же поиски саботажников и вредителей, та же чудовищная коррупция среди недавних бескорыстных говорунов… Второй раз за один век войти в тот же самый поток нечистот – это, согласитесь, ужасно!
Наконец, сами нынешние формы борьбы за власть мне напоминают давний юмористический рассказ про мозговую косточку, где герой, стараясь выбить из косточки мозг, разнес вдребезги все – мебель, квартиру, дом… Нет, я не идеализирую минувшие времена: страх человека перед государством – это жутко и унизительно. Но страх гражданина за государство – нисколько не лучше…
– Вроде бы стало уже общим местом отмечать «благотворное влияние периода застоя нашего общества на советскую литературу». Так было благотворное влияние, на ваш взгляд, или нет?
– Литературе периода застоя я хочу сказать похвальное слово. Да, был соцреализм, кстати, его наиболее оборотистые представители уже сегодня благополучно освоили «капреализм». Но было и настоящее, серьезное искусство, являвшееся практически единственной легальной оппозицией тогдашнему режиму. Каждая новая вещь Юрия Трифонова, Валентина Распутина, Фазиля Искандера, Виктора Астафьева, Андрея Битова, Владимира Соколова и многих других воспринималась не только как событие литературы, но и как факт духовного сопротивления.
– Вы привели в пример очень разные имена.
– И сделал это сознательно, хотя мои читательские симпатии между этими авторами распределяются далеко не равномерно. Но есть объективная история отечественной словесности, и переписывать ее в очередной раз лишь потому, что эти писатели оказались по разные стороны политических баррикад, безнравственно. Ложь во имя демократии так же недопустима, как и ложь во имя тоталитаризма.
«Застойная» литература выработала свой, особый «симпатический язык» – тайнопись, давшую ей возможность высказывать практически все если не в тексте, то в подтексте. Посвященные понимали, а посвященной была практически вся читающая публика. Скажу больше: «симпатическая» литература преодолевала запреты и табу, как правило, чисто художественными средствами – емкостью образа, многозначностью символа, глубиной слова и так далее. Это была мощная эстетическая система, а параллельное существование литературы русского зарубежья и андерграунда не умаляет – подчеркивает ее достоинства. И люди, которые сегодня хоронят так называемую «советскую литературу», напоминают чем-то достопамятных недоучившихся студентов, возвратившихся в свои университеты, но уже в кожанках и с маузерами.
Другое дело, что время той «симпатической» литературы кончилось. И тайнопись умирает, как язык-свист гуанчей. Сейчас мы переживаем период, который можно, переосмысливая термин Юрия Тынянова, назвать «промежутком». На мой взгляд, в этом промежутке происходит синтез трех основных направлений – советской литературы, андерграунда и литературы русского зарубежья. Надеюсь, этот процесс даст нам в ближайшее десятилетие новую словесность, достойную, если выражаться «застойным штилем», нашего сложнейшего и противоречивейшего времени.
Нет, я не испытываю ностальгии по застою, хотя там и осталась моя молодость. Впрочем, даже раб, проведший молодость на галере, вспоминает не только плети и цепи, но и красоту моря, соленый ветер, как говорится, в лицо… Все это мучительно неоднозначно, запечатлеть эту муку – одна из главных, наверное, задач моего поколения литераторов. Литература обязана оставить художественную правду о застое, а не очередной идеологический миф о подлом времени монстров и недотеп. Я уже как-то писал, что ироничность – отличительная черта моего поколения литераторов. Но сегодня, похоже, торжествует не ирония, а глумление, а оно, как ни странно, испытанное средство освободить нишу для нового кумира, подготовить общественное сознание для новой волны славословия. Когда пробьет час, глумливцы мгновенно превратятся в льстецов, оставив совестливых писателей, журналистов, киношников один на один с властью, заматеревшей и уже не желающей слышать о себе ничего плохого.
– Боюсь, что в этом случае литература вообще встанет перед проблемой постижения…
– Увы, уже сегодня перед литературой стоит не только проблема постижения, но и проблема выживания. Я помню, сколько усилий понадобилось журналу «Юность» и его главному редактору Андрею Дементьеву, чтобы пробить мои повести «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», «Апофегей». За каждое более или менее правдивое слово приходилось дорого платить. Теперь дорого приходится платить за бумагу. Коммерциализация издательского дела нынче затыкает писателю рот не хуже, чем приснопамятный Главлит. А ведь читателю не так уж важно, из-за чего опаздывает к нему хорошая книга – из-за бдительности цензора или из-за неподъемной стоимости бумаги. Русская литература в свое время сыграла огромную роль в либерализации общества, а значит, и в приближении революции. Наградой (или возмездием?) стали идеологическое ярмо и погонщики вроде Жданова. Хорошо поработали писатели и расшатывая тоталитаризм. В результате получили полную свободу тонуть в рукотворном море новых экономических отношений. У государства на помощь уже нет денег, у нарождающихся предпринимателей – еще нет. Потом посиневшее тело отечественной словесности будут сообща откачивать. Откачают. Но целое поколение писателей может снова оказаться невостребованным, уже не по идеологическим, а по экономическим обстоятельствам…
– Может быть, все дело в профессионализме?
– Да как вам сказать… Раньше, вступив в Союз писателей, можно было уже и не писать, а просто состоять в писателях. Государство на всякий случай подкармливало. Раньше этим жили – теперь невозможно. Случайные люди, забежавшие в литературу, что называется, с холоду, уже все поняли и ушли в бизнес, в средства массовой информации – в политику, где, я думаю, с ними еще хлебнут горя. Непрофессионалы – везде непрофессионалы. А вот многим настоящим писателям сейчас очень тяжело: чем талантливее человек – тем он требовательнее к себе; чем он требовательнее к себе – тем труднее пишет, а чем труднее он пишет – тем меньше он зарабатывает…
На мой взгляд, перед Союзом писателей, точнее, перед тем, что от него осталось после штурмов кабинетов и сжигания чучел, сегодня стоит не политическая, даже не творческая, а, скорее, организационно-филантропическая задача. Нет, я не наивный юноша и понимаю: от политизации литературы сегодня никуда не денешься – слишком разные силы и идеи стоят за расколом. Но, наверное, сначала нужно собраться и придумать, как сделать так, чтобы отечественная словесность не стала побирушкой на вожделенном рынке. А потом уже те, кто хочет, могут расходиться за барьеры и «целить в ляжку иль в висок»…
А если говорить конкретнее, то я убежден: главной писательской структурой со временем станет добрый старый Литфонд. Он должен быть собственником всех наших средств и достояний, полностью деидеологизированной организацией, вокруг которой и на средства которой будут существовать писательские союзы, ассоциации, клубы и т. д. Возник, скажем, клуб писателей – защитников Белого дома – пожалуйста, помещение и средства на организационно-творческую работу. Распался этот клуб по причине споров о том, кто пришел к баррикадам первым, – извините, господа, у нас тут на подходе ассоциация литераторов-постсоцреалистов…
– Резонно и рационалистично. Вы не заметили, что слово «рационализм» вчера звучало как «цинизм», сегодня – как «может быть», а завтра, когда подрастет поколение вашей одиннадцатилетней дочери?..
– Рационализм, конечно, не помешает. Поколению моей дочери придется начинать в трудном мире. Я, по крайней мере, вырос в обществе, где одряхлевшая бессмыслица выстраивалась в некое подобие закономерности. На долю же моей дочери выпадает мир, где во имя грядущей закономерности торжествует подчас молодая, агрессивная бессмыслица, что, в общем-то, типично для такого тектонического времени. Но рационализм – это тактика, а не стратегия человеческой жизни.
– А что же, по-вашему, стратегия?
– Вера, любовь, доброта, патриотизм, наконец…
– Что же это мы до сих пор о патриотизме-то не поговорили? Как вы к нему относитесь?
– Если хотите, я сторонник рационального патриотизма, и это не противоречит сказанному выше. Только не нужно путать с патриотическим рационализмом: человек начинает страстно и шумно любить родину, когда это становится выгодно. Если завтра верховодство страны вдруг провозгласит патриотизм генеральной линией, чего я, кстати, не исключаю, – сколько сегодняшних «граждан мира» даже спать будут, подложив под голову «Наш современник» и укрывшись «Днем».
Патриотизм, на мой взгляд, обязан быть рациональным, ибо грань между ним и национализмом очень хрупкая – «нажал и сломал». Сердечная любовь к своей родине должна непременно сочетаться хотя бы с рассудочным уважением к интересам других народов. И мне, честно говоря, странно, когда наш старший заокеанский брат называет свои ракеты «Patriot». Но еще страннее, по-моему, выглядит то травоядное добродушие, которое проявляют иные наши политики, когда речь заходит о вековых интересах России. На словах они вроде и радеют за державу, но это какой-то шахматный патриотизм: сегодня играем белыми, а завтра можем сыграть и черными.
Кстати, довольно скоро выяснилось, что всякое новое мышление – это хорошо забытое старое мышление. Нынешнюю национальную ситуацию в стране я определяю для себя как «синдром матрешки». Обретая суверенитет, то есть вылезая из большой матрешки, та, которая поменьше, первым делом говорит другим, оставшимся внутри ее: сидеть тихо! Не высовываться! Но процесс, как говорится, пошел – и «высунуться» хочется всем. В результате вчерашние жертвы «имперского центра» сами превращаются в «имперские центрики».
А то, что происходит сегодня между Россией и Украиной, вообще мне кажется каким-то «кошмаром на улице Вязов». Это похоже на схватку сиамских близнецов: кто бы кого ни одолел, худо будет обоим.
– Прогноз леденящий. Кстати, в вашей новой повести «Демгородок» вы тоже пытаетесь прогнозировать. Или это не прогноз, а что-то другое?
– Спросите сегодня у обывателя: что ему милее – «развитой социализм» или недоразвитый капитализм? Полагаю, очень многие выберут первое. Человеку чисто психологически ближе бесперспективная стабильность, нежели перспективный хаос. Неудавшаяся попытка демократизировать Российскую империю привела к морям крови и жесточайшей политической системе, по сравнению с которой самодержавие казалось земным раем. А к чему может привести неудавшаяся попытка демократизировать Российскую Федерацию и шире – бывший Советский Союз? Что будет, если эксперимент № 2 не удастся? Собственно, размышления об этом и привели к новой повести. Называется она «Демгородок». Так окрестные жители именуют строго охраняемый садовый поселок, где после военного переворота изолированы основные демократические деятели, начиная с президентов и заканчивая особенно неуемным поэтом-сатириком. Жизнь этих людей в крошечных домиках на шести сотках со своим огородиком – жизнь такая же невнятная, как и их предыдущая деятельность, – служит тем фоном, на котором возникает любовь демгородковского ассенизатора Мишки Курылева и дочери видного прораба перестройки, выпускницы Оксфорда. Повесть получилась грустная, ибо смеяться над человеческой трагедией можно только до слез.
Выдуман, точнее смоделирован, лишь основной ход – страна под властью диктатора. Все остальное – слова, идеи, поступки, лица – взято из окружающей нас абсурдистской действительности и сконцентрировано. Картина, доложу я вам, получилась неожиданной даже для самого автора. «Демгородок» – это, по сути, наша сегодняшняя жизнь, это моя попытка предостеречь тех, кто не понимает: бездарная демократия – самый короткий путь назад, в тоталитаризм.
Беседу вела Е. АРСЕНЬЕВА«Литературная газета», 17 июня 1992 г.







