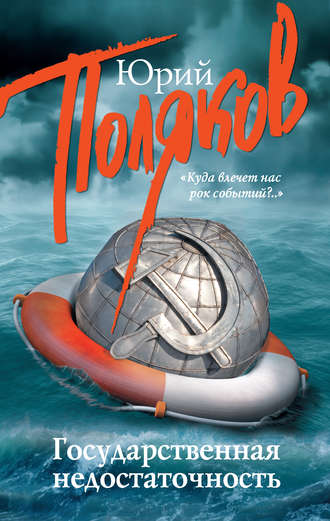
Юрий Поляков
Государственная недостаточность. Сборник интервью
– Вы понимаете, сейчас как-то стало модно спрашивать: что ты делал до революции, что ты делал в период стагнации? Опасная аналогия. Подобная абсолютизация ни к чему хорошему, кроме как к социальным столкновениям, не приводит. Смешно наказывать тех, кто жил при стагнации. Да, я коммунист. Попробуйте в застойные годы работать в идеологическом отделе, не будучи членом партии. Если тебе, предположим, говорят: хочешь работать в отделе агитации и пропаганды, должен вступить в партию. Я этого человека не осуждаю. В условиях тоталитарного режима другого выхода нет. Подпольное диссидентство – это не мой путь. Почему я должен отказываться от легальных форм борьбы? А в то время это были легальные формы…
– А при многопартийной системе вы бы…
– Я был бы беспартийным. В Верховном Совете от крайне левых до крайне правых – все члены партии. В Государственной думе, Учредительном собрании не было столько писателей, сколько в Верховном Совете. Сильная политизация. Хорошим писателям некогда писать книги. Политикой должны заниматься профессионалы. Литератор все-таки должен заниматься литературой, и сегодня на многократные предложения баллотироваться в Верховный Совет РСФСР я отвечаю благодарностью и… отказываюсь.
– В таком случае, что нового у Юрия Полякова выйдет в свет в наступающем году?
– Студия имени Максима Горького снимает фильм «Я» по повести «Сто дней до приказа». В журнале «Юность» будет опубликована новая повесть о любви, о моем ровеснике, о том, что и мое поколение носит роковой отпечаток прошлого – мы замыкаем эту эпоху.
– Спасибо за интервью. Поздравляем вас и вашу семью с Новым годом!
– Спасибо. И вас – с Новым годом!
Интервью вела Ирина ХАНСКВАРОВА«Комсомолец» (орган ЦК ЛКСМ Таджикистана),30 декабря 1989 г.
Возможно, я ошибаюсь
– Ваши произведения последних лет всегда находили болевую точку нашего общества, вы один из самых читаемых авторов. «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», «Работа над ошибками», «Апофегей» – все эти повести были событиями, но, что любопытно, продолжают вызывать читательский интерес и сейчас, когда, так сказать, пик их злободневности уже позади. Чем вы это объясняете?
– Вообще-то, объяснять это должна критика, но она у нас занимается другими делами. Я же, когда пишу, всегда стараюсь помнить о том, что меня будут читать. Все очень просто.
– Значит, вы работаете на читателя?
– А на кого мне еще работать? На вражескую разведку?! К тому же помнить о читателе и идти на поводу у читателя – вещи совершенно разные. Высказаться – еще не значит быть услышанным.
– Допустим. А как же быть с такой категорией, как «самовыражение»?
– Десятипудовая тетенька, занимающаяся перед зеркалом аэробикой, тоже самовыражается, но ходим мы почему-то на балет. Маяковский заявлял: «Я – поэт. Этим и интересен». По-моему, правильнее сказать: «Я – интересен. Этим и поэт». Впрочем, это вечный спор, и возможно, что я ошибаюсь. Но в одном я убежден: непонимание читателя всегда было страшной трагедией для литератора. И мне неловко смотреть, когда начинается игра в непонимание, позволяющая «побегать в гениях» людям, не истратившим и сотой доли той творческой энергии, которую тратит любой добросовестно относящийся к своему труду художник.
– А что вы думаете о нынешней литературной критике?
– Плохих критиков, независимо от их идейной позиции, часто зыбкой и переменчивой, я делю на две категории – приписывающие и предписывающие. Первые приписывают авторам несуществующие достоинства, вторые предписывают литераторам, как нужно сочинять. Иногда эти два свойства соединяются в одном лице, и мы получаем так называемых ведущих критиков…
– Насколько я понял, ваши отношения с критикой… не сложились… Это так? Или, может быть, вы на нее обижены?
– Скорее она на меня…
Знаете, многие критики напоминают мне обидчивых свах, которые очень серчают, если взаимная склонность между писателем и читателем возникла без их посредничества. Появляется ощущение собственной ненужности, а кто же это простит…
– Неужели нет хороших критиков?
– Есть. Не просто критики, а глубокие исследователи литературного процесса и общественной мысли, но сегодня их явно оттеснили горластые литературные поединщики.
– Да, в литературных войсках сегодня идет ожесточенная война. Это показали писательские пленумы, съезды. Какова ваша позиция, тем более что вы – секретарь правления Союза писателей России?
– Был. До VII съезда.
– У вас были разногласия с руководством СП РСФСР?
– Нет. Скорее взаимное недоумение.
– Но ведь есть и другая позиция. Многие ваши ровесники самых разных ориентаций именно сейчас активно включились в литературную и политическую борьбу.
– Это, как говорится, их бизнес. Я никого не осуждаю. Каждый живет в литературе, как хочет и умеет. Но только не надо доставать других осточертевшим за советский период большевистским вопросом: «С кем вы, мастера культуры?» От него ведь всего шаг до другого вопроса, очень нехорошего: «А с кем это вы, мастера культуры?» С кем… с кем… Да ни с кем! Поначалу я хотел назвать эту позицию «неприсоединением», но когда увидел, как группа писателей, чтобы ловчей было не присоединяться, соединилась в группу неприсоединившихся, мне стало смешно, и я понял, что нашел неточное слово, видимо, правильнее будет – «одиночество». Кстати, все эти мои соображения, высказанные осенью прошлого года в новой литературной газете «День», ужасно рассердили одного из ведущих «неприсоединентов» – известного критика Михайлова…
– Автора работ о Бунине и русском зарубежье?
– Ну что вы… Это – Олег Михайлов, а я веду речь об Александре Михайлове. Так уж повелось: если человек смешон, то злится он почему-то не на себя, а на того, кто не смог удержаться от смеха…
– Считаете ли вы, что вообще не нужно принимать участие в этой борьбе?
– Увы, это невозможно. Неучастие есть тоже форма участия. Речь о другом: по-моему, перед каждым литератором стоит выбор. Он может остаться или в истории литературной борьбы, или в истории литературы, или в литературе. В первом случае его вспоминают, во втором случае его знают, в третьем случае его читают. Последнее самое трудное, почти невозможное, испепеляюще непредсказуемое. Но только ради этого стоит садиться за письменный стол и пытаться. В одиночестве.
– А что вы можете сказать о сегодняшнем Союзе писателей? Нужен он или нет?
– Мне кажется, нужен. Разумеется, не как идеологическая, контролирующая надстройка (он таковым уже и не является), а как профессиональный союз людей, работающих в литературе. Времена крутые, и, может быть, Союзу еще придется заниматься не продовольственными пайками, а «па́йками». Есть, правда, и противоположная точка зрения, но ее, как правило, придерживаются или неписатели, или писатели с такой «широко разбежавшейся участью», что судьба СП для них малозначительна.
Сложность возникшей ситуации заключается и в том, что десятилетиями происходила – как и во многих других сферах – депрофессионализация Союза писателей, который постепенно превращался в своего Урода СОД – Союз окололитературных деятелей. Принимались не только плохие писатели, но и вообще неписатели, хотя среди них встречались люди весьма одаренные, но, увы, не в литературном отношении, в тогдашних условиях они этих своих способностей просто не могли реализовать, а членство в СП давало им права на относительно свободные формы существования в нашем зарегламентированном обществе. Но вот началась перестройка, лед, сковывавший неформальную инициативу, подрастаял, и люди с писательскими билетами в карманах потянулись к своим природным наклонностям. Вот почему сегодня среди членов СП СССР столько журналистов, политологов, депутатов, экономистов, экстрасенсов, бизнесменов, кооператоров, национальных лидеров. Это закономерно, ведь и Ульянов-Ленин в графе «род занятий» писывал «литератор». И тон в сегодняшней писательской жизни, увы, задают именно они, устраивая потасовки, напоминающие сцены из старых киношек, где каждый старается нахлобучить другому на голову торт, в результате чего все в бисквите. Жаль, что в эти драки втянуты и некоторые серьезные писатели. А обычные люди смотрят и говорят себе: «Не-ет, это не властители дум. И даже не инженеры человеческих душ. Это какие-то шабашники!» И вот результат: оборотистые кооператоры по-троекуровски выгоняют Литфонд РСФСР на улицу. А руководители СП РСФСР ничего не в состоянии сделать, – новые хозяева кабинетов с «вертушками» их просто посылают…
– А как вы относитесь к русофилам?
– Нормально отношусь, я и сам русофил.
– В каком смысле?
– В прямом. Живя в России, говоря по-русски, воспитываясь на русской культуре, не быть русофилом так же странно, как, живя, скажем, на Мальвинских островах, быть им. Хотя, конечно, случается всякое. Но я твердо убежден в одном: нельзя из своего русофильства (как из любого другого «фильства») делать профессию. Человек, извлекающий выгоду из любви к своему племени, мне так же несимпатичен, как человек, сдающий сперму за деньги. И будучи «филом» в отношении к своему народу, совершенно необязательно быть «фобом» в отношении к другим. Перетолковывая известный афоризм, можно сказать: свобода и интересы каждого народа ограничены лишь свободой и интересами других народов. По-моему, нынче, в пору взрыва национальных самосознаний, об этом забыли…
– Ваше отношение к событиям в Литве?
– Я потрясен. Литератор по роду своих занятий – миротворец, и у него может быть только один враг – антигуманизм. О моем отношении к трагедии в Литве, наверное, говорит тот факт, что я поставил свою подпись под протестом членов ПЕН-клуба в связи с событиями в Вильнюсе. Но я хочу верить, что кровавый итог заставит одуматься и тех, кто считает, будто все проблемы можно разрешить посредством разделения людей на «чистых» и «нечистых», на коренных и русскоязычных, на демократов и реакционеров…
– Вы – коммунист. Не собираетесь ли выходить из партии? Как относитесь к мнению, что КПСС – политический труп?
– В свое время большевики объявили все остальные партии покойниками и закопали их живьем. Живьем! Именно этим объясняются многие, мягко говоря, особенности нашей политической жизни советского периода. Это во-первых. А во-вторых, я не коммунист, а член КПСС, причем буковка «п» в этой аббревиатуре так же неадекватна ситуации, как фата на голове интердевочки. Поэтому сложносокращенное «КПСС» я воспринимаю, как целое слово – «Капээсэс», обозначающее некую субгосударственную структуру, в которую постепенно после прихода к власти превратилась большевистская партия. Кстати, это превращение было одной из форм преодоления большевизма, предсказанного Н. Бердяевым. И мне нынче смешно слушать, как некоторые люди уверяют, будто они в свое время вступили в передовые ряды по идейным убеждениям, а теперь-то разочаровались. Не надо песен! По идейным соображениям можно вступить в одну из партий, а в субгосударственную структуру «Капээсэс» люди – по крайней мере, моего поколения – вступали, ибо это было необходимое, не ими установленное условие самореализации во многих сферах жизни. Обыкновенный желающий нормально работать инженер, журналист, военный и т. д. в целом ряде ситуаций не мог не быть членом «Капээсэс».
Зато пристроенный родственник какого-нибудь партбосса имел возможность поиграть в беспартийность, а сегодня имеет возможность тонко морщить нос посреди всеобщей антисанитарии. Одним словом, я не собираюсь выходить из рядов с гордо поднятой головой и блистающими очами, точно узник-шлиссельбуржец, на котором вместо тюремного номера стоит номер партбилета. Зачем дешевыми эффектами искупать свои былые компромиссы? Жизнь, как известно, – это компромисс. Но при всей своей терпимости я никогда не соглашусь с теми, кто считает, что компромисс – это и есть жизнь. А в «Капээсэс» сегодня, в пору разброда, меня устраивает как раз то, что не устраивало в годы застоя: ее государственность. Поэтому, оставаясь членом «Капээсэс», как ни странно, я чувствую себя максимально деполитизированным в наше сверхполитизированное время, а это мне, литератору, как я уже говорил, необходимо. Но если «Капээсэс» из субгосударственной начнет снова превращаться в партию, да еще с большевистскими замашками, я спокойно, без шума, по-людски выйду из рядов…
– Любопытная позиция. А как в таком случае вы относитесь к происходящему в стране? Верите ли в шансы перестройки?
– То, что сейчас происходит в стране, конечно, никакая не революция, и слава богу! Это действительно, извините за банальность, перестройка – попытка перестроить общественно-экономическую жизнь страны в соответствии с моделями, которые в других странах показали свою изобильность. Только бы не вышло у нас, как с купленным на валюту импортным оборудованием, годами лежащим под дождем и превращающимся постепенно в металлолом – радость моего пионерского детства.
– Тогда другой вопрос, вытекающий из предыдущего: как вы относитесь к социалистическому выбору?
– Наверное, если бы у нас был социализм, например в шведском варианте, я бы выбрал социализм, но, поскольку у нас нет его, а ученые никак не договорятся, какое общество у нас все-таки построено, я бы предпочел просто разумный выбор – т. е. такое жизнеустройство, при котором будут соблюдены интересы максимального количества людей и по возможности всех социальных слоев. Мне вообще иногда кажется, что социализм и капитализм – это не общественные формации, а два мироотношения, уживающиеся в одной человеческой душе и в разные периоды жизни играющие различную роль. Скажем, юноша, в семнадцать лет жаждущий все поделить честно поровну, к тридцати может стать удачливым бизнесменом, а в шестьдесят пять отдать нажитые капиталы сиротам.
– Стало быть, вы разделяете новое мышление с его приматом общечеловеческих ценностей?
– Всякое новое мышление – это просто хорошо забытое старое мышление.
Но не в этом суть. Да, меня не устраивает марксистская зацикленность на классовой борьбе, которой, естественно, человеческая жизнь и история не исчерпываются. Но совсем не обязательно нашпиговывать себя «всесильным учением», чтобы понять: бывают в истории общества такие ситуации, когда именно классовые отношения между людьми становятся роковой силой, наподобие атомной энергии, превращенной в оружие. Именно это произошло в 17-м. Большевики сделали ставку на классовую рознь – и выиграли власть. А проиграли страну. Но примат общечеловеческого не отменяет классового, точно так же, как примат классового, обернувшийся на нашей земле кровавым потопом, не отменил у нас общечеловеческих ценностей. И я боюсь, что наша сегодняшняя общечеловеческая эйфория может аукнуться таким классовым Чернобылем, что следующая перестройка будет проходить где-нибудь в Приокском заповеднике под контролем ЮНЕСКО…
– Но разве новые люди, выдвинутые перестройкой, не гарантия необратимости перемен?
– А где вы видели новых людей? Просто из партера, в крайнем случае из амфитеатра, они пересели в президиум. Людей «с улицы» единицы, и не они делают погоду. Но не в этом дело! В свое время «пролетарская» революция жестоко расправилась с бывшими: «Служил царскому режиму? Пожалте к стенке!» А какому еще режиму мог служить подданный Российской империи? Королевскому, султанскому, кайзеровскому? Исключение составляли разве что профессиональные борцы, но и они часто сочетали служение революции со службой в различных тайных ведомствах. Сегодня вопрос о «бывших» не стоит, и слава богу! Мудрость или коварство (кто как понимает) создателей советской власти заключались в том, что они действительно разметали сословные перегородки, хоть волоском, хоть пальчиком, хоть клочком одежды всех прилепили к своему смоляному чучелку. У американцев есть примирительная идея о трудолюбивом разносчике газет, становящемся миллиардером. У нас – об энергичном рабочем пареньке, выросшем до генсека.
Когда раздаются призывы «поквитаться», я спрашиваю: с кем? Один мой знакомый литератор в годы застоя работал лифтером и писал чернуху, но на службу ездил в собственных «Жигулях» с дачи, которую купил его папа – большой специалист по руководящей роли партии в литературе и искусстве. Ну и кто он, мой знакомый, – жертва застоя или его барчук?
– По-моему, вы противоречите сами себе. Отсутствие новых людей – это хорошо или плохо?
– Это реальность, которую один может считать «хорошей», а другой – «плохой». И противоречив не я, а жизнь. Когда я вижу человека, пошедшего в политику, меня, честно говоря, меньше всего интересуют его политические убеждения. Я смотрю на него прежде всего с точки зрения физиогномики, и пусть человек с лицом мелкого снабженческого жулика распишет мне картины и пути всеобщего благоденствия, я ему никогда не поверю. Дурит он нашего брата! Давно, еще в пору студенчества, у меня случился доверительный разговор с одним, ныне уже покойным, профессором – очевидцем революции. Он мне признался, что довольно скоро сообразил: из всей этой затеи ничего путного получиться не может…
– Почему?
– И я тоже спросил: почему? «А потому, – сказал он, – что всем этим очень уж несимпатичные люди занимались, ущербные какие-то…» Тогда я с ним не согласился, ибо верил, что назначение политической идеи – облагораживать человека. Но теперь, пожив и поосмотревшись, понял: наоборот, назначение человека – облагораживать политические идеи. Мне грустно делиться этими наблюдениями, но присмотритесь к некоторым вершителям наших перестроечных судеб! Вот один – в его глазах горит желтый огонь бескорыстной веры в себя! Вот другой – телевизионный павлин, никогда не помнящий того, что сам же говорил вчера!
Вот третий – в своей горделивой напряженности он чем-то похож на добропорядочную даму, опасающуюся, как бы кто не напомнил ей о тех временах, когда она зарабатывала себе на жизнь общедоступностью… Неужели смысл любого переустройства исчерпывается строчками Звездинского:
У столиков наших сидят комиссары
И девочек наших ведут в кабинет…
Хотелось бы ошибиться…
– Я что-то никак не пойму: вы либерал или консерватор?
– Давайте оставим классификации до тех пор, пока в магазинах не появится хоть что-нибудь… Консервы, например…
– Хорошо. Тогда такой вопрос: вы автор первой довольно правдивой книги об армии – «Сто дней до приказа». Потом на эту тему высказывались, но первый удар приняли на себя вы. Я помню эти разгромные статьи в военной и сочувствующей прессе. А какие сегодня у вас взаимоотношения с армией?
– Как видите, в солдаты не забрили…
– А хотели?
– Литератор, нарушающий табу, должен быть готов ко всему. Так что я считаю отрицательную реакцию части военных, воспитанных на «воениздатовских» сказках для личного состава, совершенно естественной и закономерной. Но должен сказать: мыслящие военные на меня никогда не обижались и даже поддерживали, а соотношение думающих и бездумных в армии, по моим наблюдениям, примерно такое же, как и в других местах…
– Не связаны ли эти ваши наблюдения со слухами о возможном военном перевороте?
– Если бы мои убеждения зависели от колебаний политической ситуации в стране, то, наверное, в 1980 году я написал бы не «Сто дней до приказа», а какой-нибудь благостно-уставной текст, что мне, кстати, и советовали сделать на беседах в тогдашнем ГлавПУРе. Но сегодня, в пору гласности, в пору, когда земля ходит под ногами, я не вижу особой доблести в том, чтобы играть в дразнилки с обозленной, и подчас справедливо, армией. Говорю это вам как давний нелюбимец Министерства обороны. Меня вообще беспокоит та ожесточенная конфронтация, которая нынче возникла между людьми речевого жанра и представителями других видов труда, не только военными. Тот факт, что голова соображает, еще не значит, что она может существовать отдельно от тела. Кстати, первое время после выхода повести периодические издания меня постоянно дергали как непременного эксперта по делам СА и ВМФ, но постепенно мне удалось объясниться, что моя нашумевшая повесть, написанная по впечатлениям срочной службы, не повод, чтобы лезть со своими советами и рекомендациями в сферу, где специалистом я не являюсь…
Что же касается разговоров о возможном военном перевороте, то они чем-то напоминают мне слезные просьбы братца Кролика – «не бросать его в терновый куст»…
– Что вы можете сказать о фильме «Сто дней до приказа»?
– Что я могу сказать о чужой творческой работе? Повесть и сценарий послужили для режиссера Хусейна Эркенова лишь поводом для создания так называемого «авторского» кино. Многим очень нравится, многим очень не нравится…
– А вам?
– Я бы предпочел экранизацию. Но режиссер увидел так. Я уважаю чужую творческую индивидуальность и поэтому всячески помогал молодому талантливому режиссеру. В конце концов, если можно Сокурову, то почему нельзя Эркенову?
– Все ваши повести или экранизированы, или экранизируются. Наиболее удачная киноверсия, на ваш взгляд?
– Без сомнения, «ЧП районного масштаба» Сергея Снежкина.
– Но комиссия по российским госпремиям предпочла ей другую ленту на аналогичную тему – «Слугу» В. Абдрашитова и А. Миндадзе.
– Хорошая картина. Но авторы, насколько я знаю, не столкнулись с запретами и умело организованными трудностями ни во время съемок, ни тем более в вопросах проката, поэтому лавры им нужнее. Нам же со Снежкиным достаточно терний – лучшей награды эпохи гласности.
– А как вы относитесь к эротике?
– С интересом. Я вообще считаю, что уровнем эротического сознания во многом определяется культурный уровень общества. Долгие годы в нашей литературе в данном смысле господствовал соцреалистический канон, и если бы эти выхолощенные худпроизведения случайно попали в какую-нибудь другую цивилизацию и там попытались бы на их основе смоделировать земную жизнь, то пришли бы к выводу, что земляне размножаются при помощи деления или почкования…
– А теперь?
– А теперь, мне кажется, они решили бы, что все материальные и духовные ценности на Земле создаются при помощи возвратно-поступательных движений, производимых человеческими особями с некоторыми анатомическими различиями, а иногда и без оных…
– А подробнее?
– Подробнее в моем эссе «Об эротическом ликбезе…», опубликованном в журнале «Иностранная литература» (1989, № 5), и в книжке «Апофегей».
– Правда, что Театр имени Маяковского ставит «Апофегей»?
– Правда. И даже, наверное, скоро поставит…
– А что новенького?
– Новенькое – новая повесть «Парижская любовь Кости Гуманкова».
– Значит, в Союзе проблем уже нет. За рубеж потянуло? Кстати, а вам никогда не хотелось сменить страну проживания?
– Нет. Я, знаете ли, всегда считал, что живу в Отечестве, а не в стране проживания…
– А как же писатели-эмигранты – Солженицын, Аксенов, Максимов, Зиновьев, Войнович, Лимонов? Или они, по-вашему, родину не любили?
– Все они были изгнаны или выдавлены из страны, а это совсем другое дело. От остракизма никто не застрахован, и некоторые из названных вами, насколько я знаю, собираются вернуться… А главное, каждый сам выбирает себе судьбу: желание жить на родине или «охота к перемене мест» – это не есть достоинство или недостаток, это просто особенность того или иного человека. Слава богу, что уезжающих теперь перестали считать предателями, дело за малым – перестать считать дураками остающихся…
– Вернемся к «Парижской любви». О чем ваша повесть?
– Если вообще можно рассказать, «о чем повесть», то она о русских за границей. Была такая излюбленная тема в XIX веке, была, а потом вся вышла под влиянием известных политических обстоятельств. Теперь она возродилась. Российский подданный за границей бывал нелеп и забавен, но жалок он стал лишь в советский период нашей истории. Это очень грустно, и повесть моя грустная, но читать ее будет весело. За это я ручаюсь.
– И появится она, как всегда, в «Юности»?
– Да, в середине года…
– А почему всю свою прозу вы печатаете в «Юности»?
– Это мой журнал. С ним, с его главным редактором Андреем Дементьевым меня связывает очень многое, журнал насмерть бился за то, чтобы мои «непроходимые» повести увидели свет. И еще: интересно печататься в интересном журнале. Но печатаюсь я не только в «Юности», но и в «Московском комсомольце». Ведь я дебютировал в «МК» в 1973 году… И поэтому по многолетней традиции фрагмент новой повести я вынесу сначала на суд читателей «МК».
Павел ГУСЕВ«Московский комсомолец»,19 января 1991 г.







