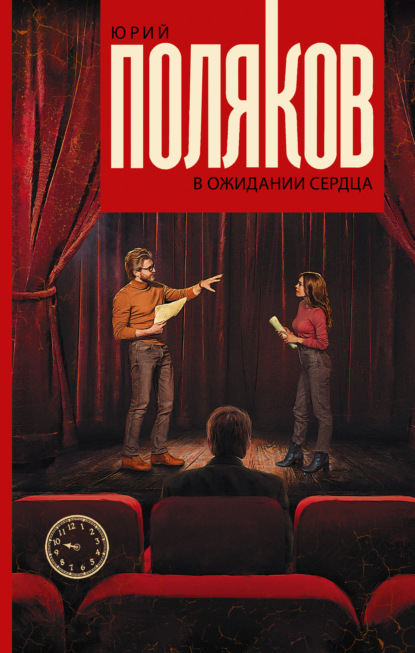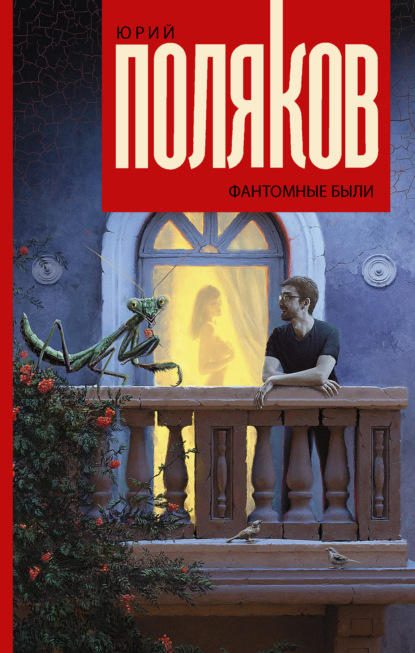
Полная версия:
Юрий Михайлович Поляков Фантомные были
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Юрий Михайлович Поляков
Фантомные были
Роман
Издан в новой авторской редакции
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Поляков Ю.М.
© ООО «Издательство АСТ», 2017
От автора
Извлечённая проза
1. Что такое автоплагиат?
Повести и рассказы, которые вам предстоит прочесть, можно было бы назвать «плагиатом», если бы автор не позаимствовал эти тексты… у себя самого. Да, так бывает, но чрезвычайно редко, чаще заимствуют у классиков или коллег по перу. Во времена моей литературной молодости это называлось «коммунальным творчеством» и подвергалось насмешкам профессионального сообщества, а иногда вело к скандалам. Помню, поэт Александр Юдахин, решивший назвать новую книгу «Перелетные листья», вдруг обнаружил именно это словосочетание в стихах молодого поэта. Отчаянию его не было предела, а поскольку конкурирующий автор работал редактором в том самом издательстве, где готовился к печати сборник Юдахина, то мнительный пиит объявил: это не случайное совпадение, а самый настоящий плагиат. Вот шуму-то было!
Нынче не так… Большинство из тех, кто вступает в литературу, не читают не только своих сверстников и старших товарищей, но и классиков. Они очень удивляются, узнав, например, что названия «Обрыв», «Крылья», «Дом у дороги» в отечественной литературе встречались, а разочарованная в любви дама под поезд уже бросалась. Что и говорить: самый малоизвестный рассказ Бунина отличается от романа, попавшего в короткий список Букера, так же, как Аполлон от гамадрила. Нет, я не о том, чтобы встать вровень с гигантами, я об элементарном владении ремеслом. Забыта простая истина: писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают. Но что делать, мы живем в эпоху интертекстуальности: «…а есть еще „Юрий Милославский“, так тот уж мой». Мнение премиального жюри волнует сочинителя куда больше, чем мнение читателей и коллег. Впрочем, одного из таких переимчивых авторов я однажды, не удержавшись, спросил: «Зачем же вы, коллега, так уж буквально „переперли“ сюжет моей повести „Работа над ошибками“ для производства, мягко говоря, своего текста о школе? „Клянусь, я не читал вашей повести!“», – глядя честными, как новенькие рублевые монетки, глазами, ответил он. И ведь не соврал, так как видел лишь фильм, снятый по этой повести режиссером Андреем Бенкендорфом, который подробно воспроизвел мою фабулу. Кстати, он потомок того самого Бенкендорфа.
Тут мы сталкиваемся с важной особенностью нынешнего литературного процесса. Современный автор с головой погружен в виртуальный информационный поток, который он часто воспринимает как реальную жизнь. Недавно я разговаривал со знакомым прозаиком, тот возмущался: «Это безобразие… Там такое было!» – «Где?» – «На митинге оппозиции!» – «Ты там был?» – «Нет, но видел фотографии и коменты в Интернете…» Знаете, ночь любви с обворожительной женщиной и эротический фильм на сон грядущий – вещи все-таки разные. Другой начинающий прозаик показал мне свой роман, где события разворачиваются в мире телевизионщиков. «А вы работали на телевидении?» – «Нет. Но все и так знают, что там происходит…» Откуда? С таким же успехом можно заявить: «Я знаю, как делают операции…» – «Как?» – «Очень просто. Хирург протягивает руку в резиновой перчатке и говорит: „Скальпель!“ В кино показывали…»
Эта уверенность, что, увидав мимолетную информационную картинку, ты узнал жизнь с новой стороны, – трагедия нынешнего творящего сообщества. Конечно, писатели всегда жили под влиянием политических раскладов, творческой атмосферы своего времени, внутри какого-то большого стиля, в тени гигантов жанра. Когда крестьянский юноша Есенин писал про то, как «кленёночек маленький матке зеленое вымя сосет», – он одной своей ногой, лапотной, стоял на почве родной Рязанщины. Но другой-то, обутой в лаковые башмаки с гамашами, упирался в имажинистскую метафорику, покорившую в ту пору русскую поэзию и попавшую в журналы, которые читал мой грамотный земляк. Однако еще никогда пишущего человека не окружала такая, как сегодня, непроглядная клубящаяся стена из моментальных информационных мифов, скоропортящихся художественных открытий, «сфотошопленных реальностей»… Художественный образ извлекается не из собственного жизненного, духовного, нравственного опыта, а из виртуально-информационного полуфабриката. Этот феномен меня заинтересовал, и некоторое количество вставных новелл в «Гипсовом трубаче» как раз и представляют собой примеры добычи литературы из вербальных отходов времени.
Но я заворчался и отвлекся. Итак, рассказы и повести, которые вы держите в руках, извлечены из романа, где они были тем, что литературоведы называют «вставными новеллами». Если выражаться совсем точно, то их правильнее теперь было бы называть «выставными», или «выставленными» новеллами. Но слово «выставить» в русском языке имеет много значений: выставить стекло, выставить картину, выставить ученика из класса, выставить локоть, выставить оценки, выставить на стол угощения… Пришлось воспользоваться словом «извлечённые».
Я люблю в прозе вставные сюжеты. Отдавали должное этому композиционному приему и наши классики. Вспомните хотя бы «Капитана Копейкина» в «Мертвых душах», «Легенду о Великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых». Кстати, «Мастер и Маргарита» – это, по сути, три новеллы, вставленные одна в другую. Во всех моих романах и повестях, начиная с «Апофегея», непременно есть вставные сюжеты, но в иронической эпопее «Гипсовый трубач» они занимают особое место. Во-первых, их много – едва не треть всего романа. Во-вторых, по жанру они сильно отличаются друг от друга: есть миниатюры, есть рассказы, есть и целые вставные повести. В-третьих, они по разному встроены в композицию: некоторые стоят обособленно и компактно, вторые я подаю читателям не сразу, а как бы «с продолжением», наконец, есть и такие, что буквально «размазаны» по всему обширному тексту. В-четвертых, вставные новеллы у меня активно участвуют в сложении сюжета. В-пятых, их авторство формально принадлежит не мне, а режиссеру Жарынину, литератору Кокотову, ищущей женщине Обояровой, старому правдисту Ивану Болту…
2. Партбилет звезды
Впрочем, придумал-то этих людей все-таки я – писатель Юрий Поляков. О том, почему мне пришло в голову сделать пружиной романного сюжета процесс сочинения соавторами сценария фильма, я подробно рассказал в эссе «Как я ваял „Гипсового трубача“». Оно вошло в книгу «По ту сторону вдохновения». Напомню: Жарынин и Кокотов приехали писать сценарий в дом ветеранов культуры «Ипокренино», в этакий блоковский «Соловьиный сад», а попали в самую гущу криминально-любовных страстей. Работа соавторов, постоянно отвлекаемых житейскими заморочками, застопорилась на «разговорном» этапе, который по мне самый интересный в творческом процессе: люди выпивают, рассказывают друг другу разные истории из жизни или делятся мечтами и фантазиями. Лишь потом из необязательной, на первый взгляд, креативной болтовни выкристаллизовывается сам сценарий. Или не выкристаллизовывается. Я не раз и не два работал в соавторстве и знаю, о чем говорю. Как это происходит? А вот так…
Однажды мы решили написать сценарий с одним известным актером и режиссером. Сидели, мучились, обдумывали сложный сюжетный поворот и никак не могли найти свежий ход. На тумбочке тем временем работал без звука телевизор, и экран показывал самолет, приземлившийся в аэропорту Симферополя. Вдруг мой соавтор, туманно улыбнувшись, сказал:
– А вы знаете, Юра, в этом аэропорту со мной случилась занятная история.
– Расскажите!
– Ну, ладно, так уж и быть. Слушайте! Молодым актером снимался я в глупейшем советском фильме на Ялтинской киностудии. Зато партнершей моей оказалась звезда, знаменитая прибалтийская актриса, назовем ее Рутой Яновной. Она была лауреатом всех премий и, кажется, в ту пору депутатом Верховного Совета СССР. Хороша необыкновенно, правда, не первой молодости. Но кто считает морщины на лице звезды, тем более под гримом! Как это бывает иногда на съемочной площадке, между нами проскочила какая-то искра, во всяком случае, после удачного дубля мне показалось, что звезда глянула на меня с какой-то многообещающей приязнью. Ничего удивительного: короткие бурные увлечения и даже долгие романы, перетекающие в брак, на съемочной площадке не редкость. Если когда-нибудь женитесь на актрисе, не позволяйте ей в кадре целоваться и постельничать. Затягивает! Но проверить свое ощущение я не смог, хотя в ту пору был молод, горяч, красив – редкая кокетливая мосфильмовская юбка уходила от меня не разоблаченной. Но тут, как назло, очень плотный график съемок, все друг у друга на глазах, а к вечеру сил остается только поесть и завалиться в койку. К тому же я сомневался: вдруг мне показалось? Постучишься ночью в дверь люкса и получишь в лицо смех, холодный, как ее родное Балтийское море. Я, знаете ли, не решился: все-таки депутат Верховного Совета, не гримерша какая-нибудь.
В общем, съемки закончились, группа приехала в аэропорт города Симферополя, зарегистрировалась и двинулась на посадку. А когда выходили из автобуса, Рута Яновна своим мягким голосом с протяжным акцентом попросила:
– Витенька, возьмите мою сумку, если вас это не затруднит…
– Конечно, Рута Яновна, – с готовностью подхватил я довольно тяжелую ручную кладь, еще ничего не понимая.
Уже на трапе звезда вдруг остановилась и ахнула:
– Боже, я, кажется, забыла в номере партийный билет!
– Ничего, мы сейчас пошлем кого-нибудь за ним! – успокоил директор картины, которому по должности приходилось разруливать и не такие накладки.
– Антон Маркович, что вы такое говорите! – начала сердиться народная артистка. – Я не могу кому-нибудь доверить мой партийный билет. К тому же я не помню, куда его положила… Нет, надо вернуться в гостиницу…
– Рута Яновна, голубушка, – взмолился директор, – вы не успеете. Посадка заканчивается!
– Ничего. Полечу следующим рейсом.
– Но следующий – завтра!
– Значит, я полечу завтра. Переночую в гостинице. В чем проблема? Поменяйте билеты, перебронируйте номер!
– Но это не входит в смету…
– Что? Ах, вот как… Вычтите из моих съемочных… – Она царственно повернулась и стала величаво спускаться по трапу.
Пассажиры, узнавая актрису, почтительно расступались. Уже сойдя на плиты взлетной полосы, звезда вдруг спохватилась, отыскала меня глазами и растерянно воскликнула со своим неповторимым балтийским акцентом:
– Витенька, а как же моя сумка?
Я вопросительно посмотрел на директора.
– Иди к ней! Бегом!
– Но посадка заканчивается, Антон Маркович!
– Все беру на себя! От нее ни на шаг. Возьмешь такси. Отвечаешь головой. Прилетишь тоже завтра. Все оплачу. Премию выпишу! Бегом! Нет, вы меня все-таки подведете под статью…
Я догнал народную артистку. Мы вернулись в отель. Всю дорогу от Симферополя до ялтинской «Ореанды» она волновалась, что никак не вспомнит, куда положила партбилет.
– Витя, вы представляете, что начнется, если я его не найду… У меня столько врагов и завистниц!
Первое, что я спросил, когда мы вошли в ее люкс, куда еще никого не успели поселить:
– Вспомнили, Рута Яновна?
– Конечно! – Она лукаво улыбнулась и достала краснокожую книжицу из лаковой своей сумочки. – Не теряй времени, дурачок, а то выключат горячую воду.
Дело в том, что в Крыму в сезон горячую воду давали три раза в день: утром, в обед и вечером. А тут как раз утомленное бронзовое солнце садилось за горы. Опускался теплый пряный южный вечер. Звенели цикады, и веяло цветущими магнолиями. Ну, а далее, как писали в романах девятнадцатого века, набросим покрывало скромности на то, что случилось дальше и продолжалось до рассвета. Одно я вам заявляю официально, слухи о холодности балтических дам – это злостная клевета невежд. Утром мы отбыли в Москву, а там Рута Яновна пересела на другой самолет и перенеслась в свою родную Колывань. Потом мы не раз встречались на фестивалях, съездах кинематографистов, телевизионных посиделках, даже как-то попали с ней в одну загранпоездку, но она никогда ничем, ни взглядом, ни движением, ни мимолетной улыбкой, не напомнила мне о том, как мы до утра искали в номере ялтинского люкса ее партбилет. Великая была женщина. Во всех смыслах! Ну, Юра, вы придумали сюжетный ход?
– Нет еще…
– Тогда расскажите мне что-нибудь!
– Даже не знаю…
– Как это не знаете? Вспоминайте! Учитесь работать в соавторстве!
3. Погорелец
В это время с улицы донесся усиленный громкоговорителем суровый голос блюстителя дорожного движения: «Водитель автомобиля государственный номер Ж 45–18 МО, немедленно прекратите движение!» Мы вышли на лоджию и увидели, как желто-синяя милицейская машина гонится за удирающей серебристой иномаркой.
– Уйдет! – предположил я.
– При выезде на Минку перехватят. Там будка и пост, – со знанием дела возразил мой соавтор.
– А хотите историю про гаишников? – спросил я. – Только что вспомнил!
– Валяйте!
– Весной восемьдесят шестого я купил первую машину, ВАЗ двадцать один тринадцать, белого, как советский холодильник, цвета. Мы как раз с классиком советского кино Евгением Габриловичем сидели в Доме ветеранов кино на Нежинской улице и писали для актрисы Ирины Муравьевой сценарий «Неуправляемая», который потом запретили за непонимание текущего момента. (Об этом подробно рассказано в эссе «Как я был врагом Перестройки», также вошедшем в сборник «По ту сторону вдохновения».) Матвеевское в ту пору было тихим районом с вялым движением транспорта, и я, начинающий водитель, долго наматывал круги по пустым улицам, не решаясь выезжать на оживленные трассы. А когда впервые решился и встал в пробке перед Смоленской площадью, то едва не заплакал от ужаса: казалось, огромные самосвалы и автобусы вот-вот затрут мой «жигуленок», как айсберги кораблик. Но ничего, выбрался… Постепенно я освоился, почувствовал себя увереннее, а к зиме и вообще распоясался, обрел ту лихость, которая плохо обычно заканчивается…
И вот, спускаясь по Гоголевскому бульвару к Волхонке, я встал на красный перед Кропоткинской улицей, почти уткнувшись капотом в стойку светофора. Ждал, слушая по приемнику концерт по заявкам и наблюдая, как над открытым бассейном «Москва» клубится густой белый пар. Когда впереди вдруг зажегся зеленый, я спокойно двинулся дальше через Кропоткинскую площадь к набережной. Вдруг послышалась милицейская трель, и ко мне, размахивая полосатым жезлом, кинулся толстый гаишник, перетянутый портупеей, как подушка, приготовленная к переезду. (Кстати, это неожиданное сравнение пришло мне в голову именно тогда, а использовал я его лишь спустя без малого тридцать лет в романе «Любовь в эпоху перемен». Так у писателей тоже бывает.)
Старший лейтенант постучал жезлом по капоту, мол, выходи из машины – приехали. Я повиновался, зная, что гаишники не любят, когда с ними говорят через окошко.
– Ослепли, водитель?
– А что такое?
– На красный свет поехали. Документы…
– Нет, на зеленый… – Я показал на светофор, установленный перед Метростроевской улицей, и сам сразу понял свою ошибку. – Не туда посмотрел… Виноват!
– Виноват – накажем. Пройдемте! – поманил меня толстый гаишник, забрал права, раскрыл книжицу, обнаружил девственный талон предупреждений и обрадовался чему-то своему. – Целочка!
Он повел меня в свою будку, торчавшую на углу Волхонки и Соймоновского проезда. В Москве тогда таких было много. Называли их в зависимости от формы – «стаканами» или «скворечниками». Мой угнетатель сидел в «стеклянном скворечнике», который на высокой бетонной ножке вознесся над проезжей частью. Подняться туда можно было по скобяным ступенькам, напоминающим пожарную лестницу. Сверху гаишник наблюдал жизнь перекрестка, мог перевести светофоры в ручное управление, а иногда и спускался вниз по карательным и прочим надобностям. Кстати, вскарабкался наверх он довольно ловко для своего избыточного веса. Я же, наоборот, еле залез. Внутри было тесно, как в кабине «Запорожца», по бокам узкие сиденья, посредине столик, похожий на купейный, под ним обогреватель с раскаленными тэнами, чтобы не задубеть зимой. А январь в тот год выдался морозный.
– Торопитесь? – спросил старший лейтенант, наслаждаясь моей нервозностью.
– Тороплюсь.
– Внимательней надо быть. – Он усадил меня и стал неторопливо заполнять протокол, вздыхая и явно намекая, что можно договориться, разойдясь по-хорошему.
Я бы и рад разойтись, но, будучи начинающим автолюбителем, еще ни разу не попадал в такую ситуацию, даже не знал, как подступиться к гаишнику. Соображая, я наблюдал, как из дымящейся воды бассейна выглядывала то розовая рука, то голова в белой шапочке. Допустим, вынимаю я три, пять или даже десять рублей, а он и говорит: «Юрий Михайлович, и не стыдно вам, члену КПСС, лауреату премии Ленинского комсомола за разоблачительную повесть „ЧП районного масштаба“, таким глупостями заниматься?»
– За три рубля он точно так и сказал бы, – авторитетно согласился мой соавтор. – Все-таки поехать на красный свет – дело нешуточное. За пятерку не уверен… Тут все зависит от личной порядочности. А десятку взял бы, не пикнув.
– Но я же тогда этого не знал… В первый раз попался. В общем, такая же ситуация, как с вашей Рутой Яновной…
– Да, чем-то напоминает…
Несколько раз выразив толстым красным лицом готовность к взаимопониманию и не получив ответа, гаишник решил, что со мной не договориться, и сварливо объявил:
– Значит, так, права я ваши забираю! Давайте!
– Я же вам их отдал… – чуть не заплакал я: вызволять документы из ГАИ – это целая история, целый день в очереди простоишь.
– Ничего вы мне не отдали… – Он стал шарить по столу. – Нет тут ничего…
– Вы же еще на улице у меня забрали.
– Вы что-то, гражданин, путаете…
И тут запахло горелым… Старший лейтенант, превозмогая живот, нагнулся, заглянул под стол, охнул и едва успел сорвать с раскаленной решетки обогревателя мои краснокожие права – уголок уже горел синим пламенем. Он торопливо потушил, обдул, расстроился:
– Извини, дурацкая конструкция, протоколы, было дело, палились, но чтобы права… Ничего – только кончик обгорел, можно не менять, под корочки спрячешь. Ладно, иди! – и он, примирительно отдав мне документы, порвал протокол. – Извини…те…
Я вышел на улицу и вдохнул снежный воздух свободы…
– История неплохая, но незатейливая, без хода… – снисходительно молвил соавтор.
– Так это только первая серия.
– Продолжайте!
Прошло лет семь-восемь. И я уже на первой своей подержанной иномарке совершил ту же самую ошибку, причем в том же самом месте. Правда, Кропоткинская улица теперь называлась Пречистенкой, Метростроевская – Остоженкой, а выехал я, перепутав светофоры, на площадь Пречистенских ворот. Да и на месте бассейна теперь виднелся лишь огромный лунный кратер, где орудовали, лязгая, экскаваторы. И вы не поверите – остановил меня тот же самый гаишник, который еще сильней растолстел и стал капитаном.
– Проезд на красный свет – очень серьезное нарушение, – покачал он головой, принимая документы. – Даже и не знаю, что мне с вами делать…
При этих словах мне показалось, что карман на шинели гаишника как-то сам собой оттопырился в ожидании вложения. Я был к тому времени уже матерым автолюбителем, и если бы меня остановил незнакомый инспектор, без слов отправил бы купюры по назначению, но я медлил и с радостью нежданной встречи смотрел на старого знакомца.
– Вы что улыбаетесь-то? Ничего смешного. Будем оформлять…
– А вы меня не помните?
– Нет. Знаете, сколько я нарушителей за день останавливаю.
– Догадываюсь.
– А что, мы с вами уже что-то… э-э-э… оформляли? – осторожно уточнил он.
– Да, много лет назад вы меня уже останавливали здесь за такое же точно нарушение.
– И что? – опасливо спросил капитан.
– И чуть не сожгли мне права на обогревателе! – Я в доказательство снял корочку и предъявил обгоревший угол.
– Точно! Так это вы?! То-то, смотрю, лицо знакомое. Как же, помню! Мы как с мужиками после дежурства выпьем по чуть-чуть, я часто это ваш случай рассказываю. Протоколы, конечно, горели, но чтобы права… Ладно, езжай, погорелец, и поаккуратнее…
– Спасибо! Удачи!
– Эх, какая там удача! Видал, какие у нас тут дела! – Он показал полосатым жезлом на развороченный лунный пейзаж, оставшийся от бассейна. – Скоро, чую, и мой скворечник снесут…
– И куда ж вы?
– Родина в беде не оставит…
Я сел в машину и повернул на Волхонку: будка на фоне котлована в самом деле выглядела как уходящая натура – так в кино называют, к примеру, дерево, которое необходимо срочно снять на пленку прежде, чем оно облетит.
– Неплохо, – кивнул соавтор, – но концовочка все-таки слабовата.
– Так будет еще и третья серия!
– Неужели?
…Прошло еще лет шесть-семь, и я на новой «Хонде» рассекал по Остоженке, намереваясь свернуть на Соймоновский проезд и далее – на Пречистенскую набережную. Впереди поднималась златоверхая громада недавно законченного храма Христа Спасителя. Он был такой новенький, такой свежий, что, казалось, с него только-только сняли обертку и розовые ленточки. Засмотревшись, я совершил оплошность: повернул из среднего ряда, а положено по разметке из крайнего правого. Нарушение пустяковое, но тут же раздалась трель, и ко мне поспешил, размахивая жезлом, высокий тощий лейтенант. Я вышел, отдал честь и документы, включая крохотное, запаянное в пленку водительское удостоверение размером с визитную карточку. Прогресс!
– Ну что же вы так… Нехорошо… – посетовал лейтенант знакомым тоном, предполагающим взаимное понимание. – Даже не знаю, что мне с вами делать…
– А тут раньше такой толстый капитан стоял? – как бы невзначай спросил я.
– Никифорыч?
– Вроде Никифорыч…
– Он теперь майор. В управлении бумажки перекладывает. К пенсии готовится. А вы-то его откуда знаете?
– А он мне однажды на тэнах в скворечнике чуть права не сжег! Смешная история…
– Так это вы! – воскликнул лейтенант и посмотрел на меня с радостным изумлением. – Никифорыч всегда, если выпьет, рассказывал, как одному чмошнику… извините, водителю чуть права не сжег. Вот, значит, вы какой! Ну, ладно, раз такое дело – езжайте и повнимательнее…
Больше я в этом заколдованном месте правил не нарушал.
– Вот теперь совсем другое дело! – похвалил мой соавтор.
4. Как я выковыривал…
Я нарочно привел в предисловии две эти истории, которые тоже могли бы войти в роман «Гипсовый трубач», но как-то не вставились. Согласитесь, если бы вы встретили их в сборнике рассказов, то вполне могли бы принять за самостоятельные новеллы, хотя в этом вступительном эссе они выполняют вспомогательную роль, демонстрируя одну из форм, точнее, фаз соавторства. В моей же иронической эпопее вставные сюжеты выполняют множество разных функций: раскрывают взгляды и опыт героев, формируют фабульное движение, втягивают в него временные пласты и различные судьбы, что придает прозе качество, которое называют чаще всего «полифоничностью». Впрочем, мне больше нравится слово «многомерность», а еще лучше «многомирность». Но главное: во вставных сюжетах я предлагаю читателям разные формы «мимесиса», так в литературоведении называется «подражание» искусства действительности – от скорбного копирования до горячечных фантасмагорий и пародийного обезьянничанья. А кто является Божьей обезьяной, мы с вами, увы, знаем…
Некоторые истории в романе предлагаются в «законченном» виде, другие зачинаются, придумываются, выстраиваются, редактируются прямо на глазах читателя, имитируя, а то и буквально воспроизводя сам творческий процесс. Собственно, я и написал роман затем, чтобы понять самому и показать другим, как из подлинной жизни, виртуального полуфабриката, а то и просто из чужих произведений делают искусство или то, что именуют «искусством». Кстати, кино у нас давным-давно делают из кино, а не из жизни. Не случайно в романе столько сюжетов, пародирующих киноповести, сценарии, синопсисы… Надеюсь со временем за эти мои приношения на алтарь Синемопы стану лауреатом какого-нибудь «Кинозавра».
Увы, иные книголюбы, даже мои поклонники, не поняли авторской сверхзадачи и роман не приняли. «Вернитесь в реализм, умоляю!» – ломала руки давняя моя читательница. Да я и не уходил никуда! Реализм – тело искусства, другого нет и не будет, а какое платье, от какого Кардена на него напялили и каким очередным «измом» обозвали – вопрос десятый. Но те читатели, которые поняли, на что замахнулся автор, они, судя по письмам, отзывам, высказываниям на читательских конференциях, горячо приняли мою ироническую эпопею и оценили. Несколько переизданий романа – тому подтверждение.