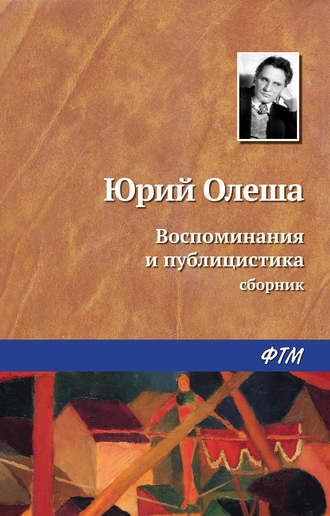
Юрий Олеша
Воспоминания и публицистика
Публицистика
Заговор чувств
Мятежного молодого человека в моей пьесе зовут Николай Кавалеров.
Однажды замечает он, что на грани двух эпох оказался он лишенным прошлого и не имеющим надежд на будущее. Оказался он нищим. «Кто сделал меня нищим? – думает он и отвечает: – Строители нового мира. Те, которые считают двигателем истории массы и ни во что не ставят пафос отдельных личностей».
Этот молодой человек чувствует себя настолько одаренным и духовно сильным, что считает законным и необходимым заступиться за себя, встать на защиту своих прав, которые история признала несостоятельными. Он хочет славы и чувствует, что имеет право мечтать о славе. Но природа славы изменилась. Герой не желает с этим мириться. Он решает задержать внимание общества на себе.
Судьба сталкивает Кавалерова со строителем. Это директор треста пищевой промышленности Андрей Бабичев – «великий колбасник, кондитер и повар». Он «выводит» новый сорт колбасы и строит фабрику-кухню «Четвертак». Молодой человек попадает в дом знаменитого деятеля. И вот:
«Кавалеров. Вы говорите, что личная слава должна исчезнуть? Вы говорите, что личность ничто, а есть только масса? Так вы говорите?
Андрей (с великим равнодушием). Так мы говорим.
Кавалеров. Чепуха. Я хочу моей собственной славы!»
У Андрея есть брат Иван. Это набрякшая от нечистой жизни личность, пожиратель раков, философ.
«Иван. Я ваш король. Рассматривайте меня. Я толстяк. У меня плешь. Мешки под глазами свисают у меня, как лиловые чулки. Смотрите… Запоминайте… Перед вами сидит Иван Бабичев. Когда-нибудь вас спросят: „Какой он был – Иван Бабичев?“ И вы расскажете… Видите котелок? (Снимает головной убор.) Порыжел мой котелок. Стал мой котелок походить на кулич. Смотрите на меня – перед вами сидит король. Я – король пошляков».
В представлении Ивана новый человек приучает себя презирать старинные человеческие чувства – великие «чувства», которые прославлялись поэтами и самой музой истории. Ныне признаны эти чувства ничтожными и пошлыми, – так кажется философу. Люди нового мира представляются ему истуканами. И этих истуканов хочет он потрясти взрывом человеческих чувств. По пивным, по чужим домам, по бульварам ищет он ярчайших носителей чувств: ревнивцев, влюбленных, честолюбцев, предателей, трусов, блудных детей, верных друзей, мечтателей, отцов, лелеющих дочерей своих, демонов. Прежде чем погибнуть, должны проявиться человеческие чувства в высочайшем напряжении.
Так возникает заговор чувств.
Иван – вождь заговора.
Жертвой должен пасть главный истукан – «колбасник» Андрей Бабичев.
«Иван. Идите ко мне… Я покажу вас брату моему… Он издевается над вами, над кастрюлями вашими, над горшочками, над тишиной вашей, над правом вашим всовывать соску в губы детей ваших… Что хочет он вытолкнуть из сердца вашего? Родной дом! Дом… милый дом… Бродягами на диких полях истории он хочет вас сделать… Гоните его! Вот подушка. Я – король подушек. Скажите брату моему: „Мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших“.
Гость. Убить такого брата нужно.
Иван. Он будет убит. От имени века я искал наемного убийцу. Я нашел его. (Целует Кавалерова в лоб.)»
Иван встретился с Кавалеровым. «Человек, у которого украли жизнь» обретает учителя и утешителя.
«Иван. О, беспокойный друг мой, милое сердце мое, истомленное мечтами. Быть может, настал час той славы, о которой мечтали вы с детства. Идите на подвиг и знайте: великий век, девятнадцатый век благословляет вас.
Кавалеров. А если новый век меня проклянет?»
Футбольный матч. Стадион. С бритвой в руках поднимается Кавалеров – наемный убийца – по лестнице, на вершине которой стоит окруженный друзьями «истукан».
«Почтенный старик. Послушайте… А не опасно ли?.. Ну, как вам сказать? А нас не арестуют как сообщников?
Михал Михалыч. С какой стати!.. Ведь это не уголовное – это историческое убийство: один человек убивает другого без всякой причины».
В финале пьесы – выход футболистов. Страсти окончены. Начинается матч.
Тема пьесы – борьба за пафос. Был ли пафос монополией старого мира, исчезнет ли он с наступлением новой эпохи, или будет он также свойствен новым, рационалистическим людям? В пьесе два утонченных человека борются с «истуканом». Зритель должен решить: истукан ли тот, кого так ненавидят эти утонченные герои? Или только вследствие неодолимости своей и правоты кажется он грозным и страшным? Он – историческая закономерность, которую нельзя одолеть. Поэтому вместо живого лица видят обреченные герои жуткую маску, «морду истории». Это лицо сияет, а им кажется оно чудовищным, и, ослепленные, они тянутся к нему, чтобы оставить на нем шрам, прежде чем погибнуть.
Пьеса не бытовая, тон ее приподнятый, патетический. Рассчитана она на подготовленного зрителя. Предчувствую уже мнение зрителей-бюрократов, что в пьесе моей все герои – сумасшедшие. Предчувствую также эпиграммы, которые будут помещены в театральных журналах:
«Чувств заговор!» Был автор очень шустр.
Все чувства зрителю давал сей автор в руки, –
На сцене было очень много чувств,
А в зале было чувство… скуки!
Или:
Любовь и ревность! Зависть! Злоба… Мрррак!
Как много чувств! Озноб хватает даже!
Да, «чувства» нам нужны… Конечно, это так,
Но до «бесчувствия» нельзя же!
Автор о своей пьесе
Пьеса моя является переделкой моего же романа «Зависть». В настоящее время «Заговор чувств» идет в Москве в Театре имени Евг. Вахтангова.
О своей пьесе могу сказать следующее: как во всякой пьесе, возникшей из беллетристического материала, в ней есть грех растянутости некоторых мест, нечеткости интриги, многоречивость.
Если бы на ту тему, на которую написана была повесть, я написал бы пьесу, не имея позади себя повести, то пьеса вышла бы совершенно иной, совершенно не похожей по построению на «Заговор» и более высокой по качеству.
Тема пьесы – борьба за пафос. Молодой человек Николай Кавалеров, которому столько же лет, сколько лет XX веку, вступает в борьбу с «благодетелем своим» Андреем Бабичевым – коммунистом, директором треста пищевой промышленности.
Кавалеров считает Андрея Бабичева тупицей, «колбасником», истуканом, лишенным чувств, машиной, подавляющей все человеческое: пафос, нежность, личность.
Молодой человек мечтает стать «наемным убийцей века». Он хочет убить Андрея Бабичева, чтобы не сдать без боя новому лицу свою личность, которая представляется ему высоко одаренной и незаслуженно обреченной на гибель.
Возникает заговор против директора. Во главе заговора стоит брат директора – фантастический человек Иван Бабичев, король подушек.
– Ко мне! Ко мне! Рыцари, влюбленные, ревнивцы, герои – ко мне! Я поведу вас в последний поход!
Так восклицает «король».
Наемный убийца заносит руку. Шрам должен быть оставлен «на морде истории».
Моей задачей было показать, что пафос не есть монополия людей старого мира, что пафос – это не есть пышность и выспренность, что строители нового мира, нового быта более, чем кто-либо, являются человечными, и то, что кажется обреченному каменным лицом истукана, есть сияющее лицо нового человека, непонятное обреченному, грозное и ослепляющее его.
Целый ряд обвинений был брошен мне по поводу главного героя Андрея Бабичева. Он колбасник, писала критика, колбасник, и только. Я сознательно дал герою-коммунисту эксцентрическую профессию, чтобы сделать его театральным, живым. Затем, в противовес пышным разговорам людей прошлого, я хотел сделать словарь героя грубым, ироническим и хотел противопоставить Офелиям – просто колбасу, беспредметной романтике – конкретность.
Пусть люди прошлого бесятся, кипят и злятся, что новый человек умеет быть поэтом колбасы. Тем страшнее жить тому, кому осталось мало жить. Тем страшней Кавалерову ощущать крах своей романтики, когда он видит, что она разбивается о такую неромантическую вещь, как колбаса.
Меня беспокоит более всего, «доходчива» ли моя пьеса до массы. Большой драматический театр работает сейчас над пьесой в том направлении, чтобы сделать ее более доходчивой. Мне кажется, что это театру удастся.
Тема интеллигента
Я написал пьесу по заказу Театра имени Вс. Мейерхольда. Пьеса будет называться, по всей вероятности, «Список благодеяний».
В каждом интеллигенте, в особенности же в том интеллигенте, который работает в области искусства, живет некая «идея Европы». Быть может, это тяготение к так называемому чистому искусству – тяготение, изживаемое с трудом. Быть может, это мысль о том, что таланту должно быть все прощаемо, – мысль о главенстве личности, индивидуалистическое стремление. Может быть, потому, что ныне мы оторваны от Европы, эта идея бунтует в душе интеллигента особенно сильно, ведя сознание по грани между тоской о потерянном главенстве личности и ненавистью к самому себе, к своему «я», которое никак не может смириться.
Действие пьесы происходит в СССР (первая часть) и в Европе. Но все это – и СССР, и Европа – существует как бы в душе главного героя. Герой, вернее, героиня, потому что главное действующее лицо пьесы женщина, актриса, мечтает о Европе. Ей дают заграничную командировку, но за день до отъезда делегация рабочих является к ней с просьбой отправиться вместе с ударной бригадой в колхоз. Актриса соглашается, но обещания не выполняет и, вместо того чтобы ехать в колхоз с агитгруппой театра, уезжает за границу. Таким образом, фактически происходит бегство за границу. Это первая часть пьесы, в которой героиня двойственна, терзаема противоречиями, тайно протестует против «порабощения личности». И вот она в Европе. Еще вчера она считала себя разорванной на две части. Мыслью она постигала веру в победу коммунизма и возникновение нового мира. Но ощущение ее было против. Борьба между мыслью и ощущением сделали ее жизнь на родине двойственной. Бежав в Европу, она как бы входит в себя. Подавленная половина души – ощущение – становится главенствующей, из половины превращается в целое, в единицу. Ей кажется, что она едина, что в ней устанавливается гармония, и жизнь ее в ее представлении становится естественной. Вот отрывок из первой сцены второго акта, диалог героини Лели Гончаровой с сотрудником полпредства Федотовым.
«Федотов. Ну как… Европа? Нравится?
Леля. Очень. А вам?
Федотов. Тоже.
Леля. Вот видите.
Федотов. Мне нравятся демонстрации в Пруссии, в Баварии и Саксонии. Мне нравится голодный поход безработных на Вену. Мне нравится бой с жандармерией в Дюнкирхене. Европа сейчас ближе к революции, чем когда бы то ни было.
Леля. Не знаю. Я уже три недели отдыхаю от мыслей о революции.
Федотов. Уже три недели вы здесь. Ну, что ж вы делаете?.. Музеи…
Леля. Ничего не делаю. Хожу.
Федотов. Куда?
Леля. Просто хожу.
Федотов. Просто ходите?
Леля. Иногда останавливаюсь и смотрю: вижу – лежит моя тень. Я смотрю на нее и думаю: моя тень лежит на камне Европы. (Пауза.) Я жила в новом мире. Теперь у меня слезы выступают на глазах, когда я вижу мою тень на камне старого. Моя жизнь была неестественной. Расстроились части речи. Ведь там, в России, отсутствуют глаголы настоящего времени. Есть только времена будущие и прошедшие. Глагол: вижу… Этого никто ощущает у нас. Ем, нюхаю, вижу. Нам говорят: как вы сейчас живете, это не важно. Думайте о том, как вы будете жить. Через пять Через сто лет. Вы или ваши потомки. И мы думаем. Из всех глаголов настоящего времени остался только один: думать. Я вспоминаю, в чем состояла моя личная жизнь в мире, который вы называете новым. Только в том, что я думала. Революция отняла у меня прошлое и не показала мне будущего. А настоящим моим стала мысль. Думать. Я думала, только думала, мыслью я хотела постигнуть то, чего не могла постигнуть ощущением. Жизнь человека естественна тогда, когда мысль и ощущение образуют гармонию. Я была лишена этой гармонии, и оттого моя жизнь в новом мире была неестественной. Мыслью я воспринимала полностью понятие коммунизма. Мозгами я верила в то, что торжество коммунизма естественно и закономерно. Но ощущение мое было против. Я была разорвана пополам. Я бежала сюда от этой двойной жизни, и если бы не бежала, то сошла бы с ума. В новом мире я валялась стеклышком родины. Теперь я вернулась, и две половины соединились, я живу естественной жизнью, я вновь обрела глаголы настоящего времени. Я ем, нюхаю, смотрю, иду… Пылинка старого мира, я осела на камне Европы. Это древний могучий камень. Его положили римляне. Никто не сдвинет его.
Федотов. Его разворотят скоро и будут воздвигать из него баррикады».
Она готова совершить предательство. И, уже став на путь предательства, начинает понимать, что вне тех условий, которые вчера казались ей неестественными и невыносимыми, она существовать не может. Здесь как бы вторая половина становится главной мысль, здесь героиня во второй раз выходит из себя и мечется, охваченная ужасом: вернуться! вернуться! Но вернуться нельзя, потому что тень предательства уже лежит на ней. И героиня ищет способа реабилитации и находит его.
Пьеса делится на три части.
Я в Европе не был. Изображать Европу не брался. Тема пьесы – «Европа духа», если можно так выразиться.
Называю я свою пьесу патетической мелодрамой.
О «Страхе» А. Афиногенова
Колоссальная заслуга Афиногенова в том, что он написал пьесу, которая имеет большой успех у широкого советского зрителя.
Когда я смотрел «Страх» и следил за переживаниями зала, я понял – существует советская публика, устанавливаются ее вкусы, симпатии, традиции.
«Страх» открыл советскую публику в широком смысле. И это завидная удача.
В спектакле МХТ поразительно играют Леонидов и Ливанов.
Речь на диспуте «Художник и эпоха»
В то время когда в кое-каких писательских лагерях наблюдается нечто вроде тревоги, я лично о себе могу сказать, что никогда не был так торжественно спокоен, так уверен в своих силах, как в этот год.
Мне кажется, что когда ходишь вот здесь, в этом городе (Ленинграде), где видишь великую архитектуру и великую живопись в музеях, – тогда невольно начинаешь думать о себе как о художнике. Когда видишь эту улицу, где мы сейчас находимся, улицу Зодчего Росси, когда видишь эту арку Генерального штаба, поворот под аркой, где можно отстоять час и читать прозу, как драму, – тогда начинаешь думать о себе как о художнике.
Бывают такие эпохи – можно сказать, поэтические эпохи, – когда история внезапно настораживается и смотрит как бы на тебя. И вот я себя вижу как бы под лучом истории. Когда живешь в такую эпоху и особенно когда ты – поэт, писатель, тогда нужно обязательно проверить себя в смысле того, являешься ли ты художником. И вот я чувствую себя преисполненным, может быть, идеалистическими стимулами, которые создают напряжение, творческое напряжение, дают надежду, создают гордость и вызывают зависть к великим мастерам художества.
Тут многие говорят «попутчик». Это звучит как-то неприлично. Тут даже парадокс какой-то высказывается, когда говорят «пролетарская и советская литература», не объединяя их в одно. Я себя считаю пролетарским писателем. Может быть, через тридцать лет меня будут читать как настоящего пролетарского писателя. Возможно, это гордое заявление. Возможно, я чрезвычайно заносчиво говорю. Но я делаю это вполне сознательно: я все-таки чувствую, что я работаю для пролетариата.
Мне как-то говорили, что моя пьеса «Список благодеяний» запоздала (это говорили критики), а между тем я видел, как смотрели эту пьесу здесь, в Ленинграде, как ее смотрели рабочие Путиловского завода, как ее смотрели в Москве, – и я понял, что это все ерунда, что критики ошибаются: пьеса великолепно чувствуется, смотрится хозяевами жизни. Хозяин жизни чрезвычайно радушен, чрезвычайно гостеприимен: он не замечает опрокинутого стакана. Вот когда я понял, что пишу для хозяина. Я получил глубочайшее удовлетворение, когда видел, как смотрят рабочие – хозяева жизни – эту пьесу. В результате у меня получается глубокая, святая, музыкальная уверенность в том, что я пишу именно для пролетария, и эту уверенность во мне никто не разобьет. Конечно, надо перестроиться. И вот сейчас встает вопрос, в который упираешься, что называется, лбом, – это вопрос о перестройке, вопрос о приобретении ленинско-марксистского понимания жизни.
Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, до чего это противно. Это – слабость, от которой я хочу отказаться. Я хочу отказаться от всего, что во мне есть, и прежде всего от этой слабости. Я хочу свежей артериальной крови, и я ее найду. У меня поседели волосы рано, потому что я был слабым. И я мечтаю страстно, до воя, до слез мечтаю о силе, которая должна быть в художнике восходящего класса, каковым я хочу быть.
Я, конечно, перестроюсь, но как у нас делается перестройка? Вырываются глаза у попутчика и в пустые орбиты вставляются глаза пролетария. Но никто из хирургов, которые производят операцию, не знает, что такое глаза пролетария. Сегодня – глаза Демьяна Бедного, завтра – Афиногенова, и оказывается, что глаза Афиногенова с некоторым бельмом. (Смех.) От этой медицины я обращаюсь к знахарству – интуиции. Я точно знаю и чувствую, как мне надо самому перестроиться. Я когда-то сказал вещь, которая считалась крамольной: что в эпоху быстрых темпов художники должны думать медленно. Когда «Список благодеяний» вышел отдельной книгой, то настолько моя мысль показалась странной, что корректор написал вместо «медленно» – «немедленно», и получилось: в эпоху быстрых темпов художник должен думать немедленно. (Смех.) Теперь все чаще начинает утверждаться мысль, что художник должен думать медленно. Процесс перестройки, конечно, медленная вещь, естественная и закономерная, и нечего особенно спешить, потому что мы слишком еще молоды, мы существуем всего пятнадцать лет и у нас еще не может быть гениальных пролетарских художников.
Здесь говорят о том, что надо к пятнадцатой годовщине Октября сделать пьесу. Почему к пятнадцатой, почему к пятнадцатой лучшую, чем к четырнадцатой, или к шестнадцатой, или к половине годовщины? Я этого не понимаю. У нас есть какое-то благоговение перед круглыми цифрами. Но ведь пятилетку мы сделали в четыре года, значит, пять можно изменить на четыре, и это даже лучше. (Аплодисменты.)
Я считаю, что весной, когда меня крыли за «Список благодеяний», я излишне засуетился. В этих ошибках я не раскаиваюсь – это был правильный, закономерный путь художника, который своим путем хочет прийти к коммунизму. Если я написал о Европе, то это был продуманный этап, и если бы я этого не написал, то я не смог бы перейти к другой пьесе об искусстве, где я ставлю вопросы: что такое искусство, что такое пролетарское искусство? Я затрагиваю все вопросы, которые возложены эпохой на наши утлые плечи, потому что все эти вопросы прорабатывались в теории, и впервые мы прорабатываем их на практике. Мне говорили: «Ты не прав со „Списком благодеяний“». Я чувствую, что это неверно. Я понимаю критику. Но сразу чувствуешь, на расстоянии чувствуешь человека, которому можно поверить, который тебя учит чему-то, но… есть и газетная мелкота, поучающая писателя. Если бы я слушал все то, что говорит критика, – я перестал бы себя уважать как писателя. Я сам найду пути – без кондуктора. Я чувствую в себе самостоятельность, я чувствую в себе силу обойтись без мелкой критики. Это чрезвычайно для меня важно. У меня всего было два этапа: был «Заговор чувств», был «Список благодеяний». Следующий этап – поиски сил, которые должны быть в художнике.
Я говорю о зависти. Раздирает зависть. Я читал на днях случайно Сен-Симона, о XV веке. Он говорит, что XV век был вершиной человеческого развития в Средневековье. Он говорит, что в одном веке жил Коперник, Ньютон, Леонардо да Винчи, Гуттенберг… И думаешь – я тоже живу на какой-то вершине человеческого развития, неужели я не буду в этом списке? И от этого начинаешь мечтать найти ту силу, которая может меня сделать большим мастером, большим художником, достойным эпохи. Явилась мысль, что, может быть, при социализме искусства не будет. Я думал так – поэтически думал: для чего было искусство? Искусство создавало идеального человека, искусство было гуманитарным, и, поскольку будет достигнут идеальный строй, искусство будет просто ненужно. Так думалось, и это я теперь сообщил персонажу своей пьесы. Ведь пьеса и будет результатом спора с самим собой, и один из персонажей будет проповедовать эту идею. А так как я почувствовал, что это неверно, то этот персонаж будет подвергнут казни.
Я думал, что искусство больше жизни. Оно обнимало мою жизнь, как небо, а с некоторых пор я почувствовал, что искусство – часть жизни, такая же, как наука, как хозяйство, как техника…
Как-то у себя дома я днем слушал радио. Передавали скрипичную сонату Моцарта. Я писал и слушал Моцарта, а жена где-то что-то жарила, и я почувствовал гигантскую гармонию мира. Я почувствовал, как прекрасна и замечательна жизнь, что днем по радио передают рабочим скрипичную сонату Моцарта… Сидит писатель, пишет… Другой человек, скажем жена, жалуется, что трудно жить без профессии, трудно быть ничем… Я почувствовал, что все это – гармония, гармония прекрасной жизни: хозяйство, быт, техника, музыка, литература – все то, что составляет нашу замечательную жизнь. Я почувствовал колоссальную победу.
Мне кажется, что мы мало внимания уделяем творчеству. Надо огромное искусство создавать. И я думаю, что оно, конечно, будет создано. Не надо стесняться, надо больше быть гордым, что ты поэт, художник. Не надо бояться. Думаю, что, кто несет в себе звездочку нового мира, тот может выражать свою индивидуальность. Надо только, чтобы эта звездочка сверкала внутри себя самого.
Я думаю, что придет настоящий пролетарский художник, который спутает все карты. Это будет, может быть, через десять, может быть, через тридцать лет, потому что Гюго – сын революционного генерала, генерала Великой французской революции – появился через сорок лет после Великой французской революции. Может быть, искусство делается более медленно, чем политические акты. Может быть, в искусстве нет той площади, на которой можно взять Зимний дворец. Я думаю, что класс делает искусство в союзе с временем все-таки. Я думаю, что моя писательская функция (моя лично – я как-то привык себя рассматривать одиноким среди попутчиков), моя линия – продумать вопросы искусства, для того чтобы подготовить путь для грядущего пролетарского художника. Я эту функцию считаю громадной. Я полагаю, что именно это моя главная функция в этом новом и поистине лучшем из миров.







