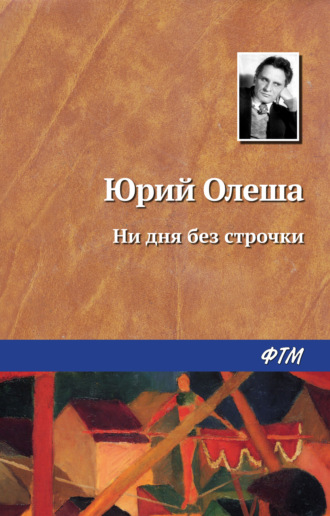
Юрий Олеша
Ни дня без строчки
Часть первая
ДЕТСТВО
Прежде чем предложить вниманию читателя эту книгу, я хочу рассказать историю ее возникновения. Это необходимо, поскольку книга необычна – какие-то отрывки! – и может оказаться не только не понятой читателем, но даже вызвать раздражение.
Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать… Хоть и не умеет писать так, как пишут остальные.
Однажды я как-то по-особенному прислушался к старинному изречению о том, что ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы не написать хоть строчку. Я решил начать придерживаться этого правила и тут же написал эту первую «строчку». Получился небольшой и, как мне показалось, вполне законченный отрывок. Произошло это и на следующий день, и дальше день за днем я стал писать эти «строчки».
Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать как значительное, нужное людям, – книга о моей собственной жизни.
В прошлом году распространился слух, что я написал автобиографический роман.
В ресторане Клуба писателей, через который я проходил, неожиданно подняв на меня лицо, Тараховская, автор детских стихов и, конечно, взрослых эпиграмм, спросила меня:
– Это правда, что вы написали автобиографический роман?
Я сказал, что нет, она огорчилась – по лицу было видно, что огорчилась.
– Боже мой, а говорят, такой замечательный автобиографический роман.
И мне самому стало жаль, что я не написал романа. Я очень нежно, благодарно попрощался с ней.
Я вспоминаю только один из фактов. Еще со всех сторон я слышал о моем романе.
Что же, очевидно, хотят, чтобы именно я написал, если верят в слух, если сами распространяют. Может быть, нужно написать, если этого хотят современники? Причем просто подсказывают форму – автобиографический роман… Этим, кстати, показано понимание характера моих писаний.
Попробовать?
Ну вот начало.
Я шел в гимназию по главной улице города, которая называлась Дерибасовская, вдоль магазинов с их витринами, кстати говоря, очень богатыми и нарядными, вдоль платанов, вдоль зеленых скамеек, вдоль часов магазина Баржанского, таких широких в диаметре и висевших так невысоко над улицей, что и вправду можно было идти вдоль них.
Часовой магазин Иосифа Баржанского.
Часы над улицей.
Стрелки кажутся мне величиной в весла… Нет, это все…
Я сейчас выскажу мысль, которая покажется по крайней мере глупой, но я прошу меня понять.
Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк, максимально, скажем, в сто строк – это и есть современный роман.
Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной.
Книги читаются сейчас в перерывах – в метро, даже на его эскалаторах – для чего ж тогда книге быть большой? Я не могу себе представить долгого читателя – на весь вечер. Во-первых, миллионы телевизоров, во-вторых, надо прочесть газеты. И так далее.
Пусть я пишу отрывки, не заканчивая, но я все же пишу! Все же это какая-то литература – возможно, и единственная в своем смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать – и если пишет, и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так.
Главное свойство моей души – нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить заботу именно о том, что вот что-то надо сделать и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины: то я предполагал, что это «что-то» – это роман, который надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо, – на самом же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь – подождите, вот умру, и тогда уж буду жить.
Между тем я всегда был оптимистом и очень любил жизнь. Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая запах свежеокрашенных зеленой краской дощечек, на которых я собственноручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были красоваться эти дощечки… Масляная краска вдувала в тело здоровье. По всей вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади? Видел ли я их? Не помню. Лошадей я и не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, почти колбасками возвышавшиеся над плоскостью дощечки буквы. Я исполнял эту работу как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное…
Ничего не должно погибать из написанного. А я писал карандашом на клеенке возле чернильницы, причем в чужом доме, писал на листках, которые тут же комкал, на папиросной коробке, на стене. Не марал, а именно писал вполне законченно, работая над стилем. Хорошо бы вспомнить, что писал.
Помню отрывок об Эдгаре По – как его несут подобранного в сквере с волочащимся по земле краем пальто. Помню по поводу писем Ван-Гога – какой он скромный, как в своей скромности уговаривает он брата, что в конце концов и он мог бы заниматься живописью – подумаешь! Помню о том, что моя заветная мечта – сделать сальто-мортале. Еще целый ряд отрывков. Есть где-то в папках Гершель, поднимающийся с гостем в обсерваторию, затем мое, гимназиста, удивление по поводу того, что латынь это не что иное, как язык древних римлян. Еще раньше – отрывок о том, как умер от скарлатины гимназист Володя Долгов и мы пришли на похороны, как мы шли по переулку и, казалось, церковь идет нам навстречу. Там же об окне, раскрытом среди зимы, по которому вьется, вылетая из него, занавеска, чем-то напоминающая рыдание – образ смерти. Еще много отрывков, картин, набросков, мыслей и красок.
Нужно сохранять все. Это и есть – книга.
Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле, было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь… Разве это не было страшно?
Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было.
Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с неким молодым человеком. Я не знаю ни времени года, когда совершается этот день, ни местности, в которой он совершается… Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. Тем не менее оттого, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг к другу навстречу, произошло то, что в мире появился я.
А если бы свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей? Именно я?
Я, естественно, не помню, как я родился, момента рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу, если бы не наше, не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента, и наше желание – хотя бы немного в памяти нашей приблизиться к нему.
В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первое воспоминание, – уже далеко не первое. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходит с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в этой секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были нестрашными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зрительные, слуховые и осязательные ощущения… Мозг мой уже работал, работали, очевидно, и органы памяти, и не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось; очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некими… я даже не могу определить… некими продолжающимися в глубине сознания воплями.
Удивительная работа воспоминания. Мы вспоминаем нечто по совершенно не известной нам причине. Скажите себе «вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства». Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно непредвиденное вами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включенная какими-то инженерами позади вашего сознания. Черт возьми, воля почти не во мне! Скорее, она рядом! Как мало она влияет на целого меня! Как мало я, сознательный, я, имеющий желания и имя, занимаю места во мне целом, не имеющем желаний и имени!
Одно из крепко засевших в нас желаний есть желание припомнить первое наше впечатление о мире, в котором мы начали жить.
Я постоянно делаю усилия в этом смысле… Иногда мне кажется, что я вспомнил, что вот оно, это первое впечатление. Однако вскоре убеждаюсь, что вряд ли картина, за которую я ухватился, есть именно первая, которую я увидел отчетливо. Все признаки ее говорят мне, что она появилась уже перед более или менее разбирающимся во внешнем мире сознанием. А первая? Какая же была первая? Вспомню ли я ее когда-нибудь? Возможно ли ее вспомнить?
Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то, значит, и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню, и, следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира, навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми.
Я ем арбуз под столом, причем я в платье девочки. Красные куски арбуза… Вот что встает передо мной как наиболее раннее воспоминание. До того – темнота, ни одной краски.
Первое, что я помню, – это меня несут, взяв из ванны. Меня несет женщина со старыми, вяло свисающими локонами… Кто она? Тетя? Как могу я помнить, какие у нее локоны? Как я могу знать, что они старые? Да еще вяло свисают? Что-то я придумываю сейчас, на ходу. Но почему же я придумываю именно это, а не что-нибудь другое? Почему эти картины рождаются одновременно? Какая-то причина этому есть! Очевидно, какой-то частью сознания я схватил и ту картину, которая кажется теперь придуманной!
Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоградом. Я ничего не могу сказать об этом городе такого, что дало бы ему какую-либо вескую характеристику. Я прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде, но и тогда увидел только южные провинциальные улицы с подсолнухами. Пел петух, белели и желтели подсолнухи – вот все мое восприятие города, где я родился.
О моем отце я знаю, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком. Имение было порядочное, лесное, называлось «Юнище». Оно было продано моим отцом и его братом за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство. Я вспоминаю какую-то семейную ссору, сопровождающуюся угрозами стрелять из револьвера, и ссора эта возникает, как вспоминаю я, из-за остатков денег, тоже проигранных… Впрочем, в Елисаветграде имеется у нас еще достаток: мы ездим на собственном рысаке, живем в большой, полной голубизны квартире. Отец, которого в те годы я, конечно, называл папой, пьет, играет в карты. Он – в клубе. Клуб – одно из главных слов моего детства.
– Папа в клубе.
Общее мнение, что папе нельзя пить – на него это дурно действует. И верно, я помню случай, когда папа ставит меня на подоконник и целится в меня из револьвера. Он пьян, мама умоляет его прекратить «это», падает перед ним на колени…
Не раз появляется у меня в воспоминаниях револьвер. Это не потому, что мой отец отличался какой-то особой склонностью убивать, вовсе нет, просто в ту эпоху оружие такого рода стало впервые доступно обыкновенным, не связанным с войной людям, револьвер стал некоей изящной вещицей, игрушкой, продавался в магазинах. Мужчине всегда в некоторой степени свойственно желание попетушиться, а тут еще под рукой такая штучка, как револьвер, почему же не схватить его, если для этого нужно только открыть ночной столик?
Итак, я стою на подоконнике, отец в меня целится. Это, конечно, шутка, однако ясно: отцу нельзя пить. Об этом известно клубменам и другим знакомым, известно родственникам, теще, теткам. Считается, что в трезвом виде папа обаятельнейший, милейший, прелестный человек, но стоит ему выпить, и он превращается в зверя.
Отца я, можно сказать, помню совсем молодым. Пожалуй, ему нет еще и тридцати лет, когда я уже знаю, что это мой отец. Наружности не помню. Помню какой-то отрывок из того, что родители называют именинами папы: я в дверях, и папа входит в двери из комнаты, куда хочу войти я, там в комнате на столе сладости, разноцветные, густо, необыкновенно нарядно блестящие бумажки от шоколадных конфет. Папа возвращается, берет что-то со стола и вручает мне. Передо мной, как вспоминаю я теперь, стоит молодой человек, низко и мягко подстриженный, я вижу, как молодо поворачивается его плечо…
Неотчетливо помню я также и маму. Она хорошо рисовала, ее называли Рафаэлем. Правда, никогда я рисунков маминых не видел, так что и насчет ее рисования, и насчет того, что ее называли Рафаэлем, может быть, это какое-то иное воспоминание, приплывшее ко мне из чужой жизни.
Хоть в моей памяти и не удержалось реальной об этом картины, тем не менее непреложно, что мама моя была красивая. Говор стоял об этом вокруг моей детской головы, да и вот передо мной ее фотография тех времен. Она в берете, с блестящими серыми глазами, молодая, чем-то только что обиженная, плакавшая и вот уж развеселившаяся женщина.
Ее звали Ольга.
В детстве говорили, что я похож на отца. Между тем в ту пору, когда я уже научился понимать, что зеркало отражает именно меня – научился, если можно так выразиться, смотреть в зеркало, – я, наоборот, увидел сходство с матерью, а не с отцом. Я сказал об этом открытии, надо мной смеялись. Мнение, что я похож на отца, утвердилось настолько крепко, что, повторяю, надо мной смеялись! Но сколько я ни бросал взглядов в зеркало, каждый из них говорил мне, что я прав – из моего лица смотрело на меня лицо мамы. Из моего загрязненного всякими нечистыми помыслами лица мальчика – прекрасное лицо матери! Не знаю, почему только один я его видел. Однако понемногу и другие стали восклицать:
– Похож на маму!
И другие увидели, что, кроме сходства с отцом, в моем лице начинает жить также и сходство с матерью. Это с годами, это когда из мальчика я стал превращаться в юношу… Чем таинственней, чем ближе к первой любви становилась жизнь моей души, тем явственней проступало сходство с матерью. Чем убежденней чувствовал я, что стою у волшебного порога какого-то иного существования, связанного с женщиной, тем дольше задерживались на моем лице нос, губы, очи именно матери.
И затем, вступив в жизнь, я не представлял себе себя иначе, как похожим на мать.
По старому стилю я родился 19 февраля – как раз в тот день, в который праздновалось в царской России освобождение крестьян. Я видел нечто торжественное в этом совпадении; во всяком случае, приятно было думать, что в день твоего рождения висят флаги и устраивается иллюминация.
С утра я получал подарки. Помню синеватый дым от пистолетных выстрелов, помню переводные картинки какого-то особого свойства, помню подаренные мне кем-то – только подумать! – золотые пять рублей. Они долго сохранялись в маленьком кожаном кошелечке; ужасно сложные и непонятные чувства вызывал этот мощный золотой кружок среди грязноватых складок кожи!
Пять рублей были в то время очень большой суммой. Ее можно было положить как основу для самого яркого мечтания – купить велосипед, поехать за границу… не помню судьбы этой суммы. Кажется, ее одолжили у меня взрослые и не отдали.
Что такое иллюминация? Это фонари из грубого стекла – одна полоса красная, другая зеленая, третья желтая. Не полоска, а вернее, грань; фонари, как кажется мне, были шестигранные. В них, вставленная в гнездо с зубчатыми краями, горела свеча. Это был очень мутный свет – сквозь стекла, испачканные в сараях! Тем не менее, когда они висели целыми дюжинами на протянутых между деревьями проволоках, это что-то значило – во всяком случае, для детской души.
Ни с чем не сравнимое горе я испытал ребенком лет четырех в связи с отъездом домой гостившего у нас моего двоюродного брата. Его звали Володя, и он был студент какого-то института, дававшего право носить на плечах квадратные, изгибавшиеся по плечу погончики из металла, бархата и большой блестевшей золотом буквы с цифрой. Студент был блондин, довольно полный, с котлообразной, но красивой головой. Это более поздние впечатления, в тот раз я воспринимал только великолепие какого-то существа – великолепие, которое я, разумеется, не мог анализировать, но которым я наслаждался и физически, и душевно, наслаждался, ликуя каждой частицей своего существа, как даром богов, как гигантским, оказавшимся в моем распоряжении куском чего-то волшебного, чего в раю много, а у нас бывает только в виде одной сразу исчезающей улыбки или еще чего-либо, тотчас же из жизни улетающего в воспоминание.
Парикмахерская на Успенской улице. Здесь как-то захолустно. Даже идешь к порогу по булыжникам, между которыми трава.
Отец говорит парикмахеру, с которым у него какие-то неизвестные, но короткие отношения:
– Подстригите наследника!
Я, вероятно, совсем маленький мальчик, стричься меня еще водят. После сказанного я иду по коврику к креслу и зеркалу, возле которых ждет меня парикмахер весь в белом, как вафля.
– Подстригите наследника!
Мне это тягостно слушать. И почему-то стыдно. И почему-то помню я до сих пор эту тягость. Какой же я наследник? Чего наследник? Я знаю, что папа беден. Чего же наследник? Вообще папы, его повторение?
Просто словечко, приобретенное в данном случае не папой. Так уж принято было тогда говорить о сыне-наследнике. Чего наследник? Я был один, один в мире. Я и сейчас один.
Среди булыжников росла трава. Булыжники синели. Как давно я не видел булыжника, как давно не держал его в руках. Он всегда был нагрет и всегда оставлял на руке пыль, которую отряхивали ударами ладони о ладонь.
Он меня подстриг, этот вафля-парикмахер, и я до сих пор помню, как холодно голове после стрижки, каким широким становится воротник и как два толстых пальца парикмахера, как два ствола, влезают за воротник, чтобы вынуть, как им кажется, остатки волос.
Она приехала из Сибири, ее звали Галька. Очевидно, она была совсем еще молодая. Я помню нечто в темных тонах, отдельную прядь темных же волос.
В Одессе была зима – и, главное, необычно холодная для Одессы. Я помню окна, за которыми снег. Сестру-гимназистку не пустили в это утро в гимназию. Мы сидим в темной, хоть за окнами снег, столовой (они выходят в стену, окна) и заняты каким-то детским рукоделием – кажется, делаем какой-то театр. В руках у меня кусок обоев, от которых, сказал бы я, делается на ладонях и пальцах оскомина, и столбики разноцветных карандашей. Я ими рисую на обоях покрытые снегом ели, сугробы снега, дорогу…
Приехавшая из Сибири тетя добродушно участвует в рукоделии с сестрой-гимназисткой.
Я не помню, чтобы у нас устраивали елку. Всегда наши радости по поводу елки были связаны не с елкой, устроенной у нас в доме, а с елкой у знакомых. Там, в чужом доме, бывали бал, дети, конфеты, торты. Впрочем, я, кажется, деру сейчас из стихов и рассказов… Во всяком случае, мы и дома получали подарки – книги, широкие дорогие книги.
Конечно, запах хвои – это навеки, и мягкие иголки ее тоже. Хвоя имела право засорять паркет, она накоплялась во все большем и большем количестве, в углу, под елкой, пересыпалась в другие комнаты, смешивалась со стеклом украшений, которые в конце концов тоже валились на пол, похожие на длинные слезы, и кончалось все это тем, что елку уносили из дому, взвалив на плечи, как тушу.
После Катаева, Пастернака мало что можно добавить к описаниям елки, Рождества.
Господин Орлов пошел с дочкой на елку в гости, и там, когда дети танцевали, елка опрокинулась, в результате чего дочка Орлова сгорела. В тот день, когда ее похоронили, он пошел в цирк. Мы, дети, ужасались, когда нам рассказывали об этом, но взрослые оправдывали Орлова; он, говорили они, очень горевал и именно поэтому пошел в цирк. Одно из самых сильных переживаний – это как раз Орлов в цирке после похорон дочки. Мне и теперь кажется, что я вижу его несколько раскоряченную фигуру в первом ряду кресел над желтой ареной, усы под носом и кружки пенсне.
Вероятно, это и была первая любовь. Мне хотелось подражать этой маленькой девочке. Она как-то наклонялась корпусом то в одну, то в другую сторону – надо полагать, приводя в порядок какую-то часть одежды, – я делал то же самое движение, причем наедине с собой и без нужды.
Мне было, я думаю, пять лет. Девочка, пожалуй, была постарше, но не слишком. Как ее звали, не помню. Помню фамилию – Архарова.
Помню сумерки на улице, перед оградой какого-то садика – там, где была третья гимназия, в районе, на мой взгляд, чудесном, не совсем еще загородном, но уже близком к морю, уже с виллами, с розами, с клетками попугаев на балконах.
Сумерки, но мы, дети, еще на улице. Вероятно, поблизости взрослые, но мы с ними не общаемся. Мы сами по себе – дети. И среди нас Архарова. Какая же она? Нет, я никогда не извлеку из этих сумерек ее лица. Да и не требовалось тогда видеть лицо, чувство слагалось из каких-то других предпосылок – вот хотелось, например, так же, как и она, наклоняться то вправо, то влево, чтобы поправить одежду.
Я помню какие-то балясины, тонущие в траве… Может быть, это были перила террасы? И там, говорили, живет старая дама, у которой много кошек. Ни старой дамы, ни кошек я не видел. Мы туда не подходили, близко к дому. Особенно значительным он становился в сумерки, когда бывало наиболее страшно, что вдруг появятся кошки и старая дама. Одно из окон на повороте цоколя серо, как после дождя, поблескивало над садом…
В конце концов неважно, чего я достиг в жизни, важно, что я каждую минуту жил.
Однажды, когда я был маленьким мальчиком, легши спать, я вдруг услышал совсем близко от себя какой-то звук – глухой, но очень четкий, одинаково повторяющийся. Я стал теребить одеяло, простыню, убежденный, что из складок выпадет, может быть, жук или какая-нибудь игрушка, машинка. Я заглянул под подушку – ничего не обнаружилось. Я лег, звук опять дал о себе знать. Вдруг он исчез, вдруг опять стал раздаваться.
– Бабушка, – обратился я к бабушке, с которой спал в одной комнате, – ты слышишь?
Нет, бабушка ничего не слышала. И вдруг, как будто извне, пришло понимание, что это я слышу звук моего сердца. Это понимание не удивило меня и не испугало. Признание правильности того, что во мне бьется сердце, пришло ко мне с таким спокойствием, как будто я знал об этом факте уже давно, хотя с этим фактом я столкнулся только что и впервые.
Однажды мой отец принес домой или купленную им, или подаренную ему маленькую обезьянку.
Мы были маленькие, ложились рано, отец же принес, по всей вероятности, этот подарок или покупку из клуба, и, таким образом, обезьянка оказалась для нас появившейся вместе с утром, с солнцем. Теперь мне кажется, что на ней была какая-то одежда – синие штаны? – но вернее всего он был только в своей собственной шерсти, этот маленький золотой зверек. Какая-то шутка вилась вокруг него: не то папа стал его владельцем, потому что был пьян, не то обезьянка оказалась у него в результате пари – словом, чем-то, сам того не ведая, зверек был и унижен, и осмеян, и оскорблен.
На руках у кого-либо мы так его и не увидели. Непостижимо, как принес его папа! Он все время был в отдалении от нас, причем в отдалении, непреодолимом для нас, негимнастов, в отдалении, перед которым громоздились то углы растворенных окон, то сразу целые пучки деревьев, то вдруг вся улица… Он удалялся от нас прыжками, гигантскими, как арки, и когда нам казалось, что дворник вот-вот схватит его по соседству с дымовой трубой, вдруг из соседней улицы раздавался полный восторга крик:
– Мартышка! Смотрите, мартышка!
Никто уже не может вместе со мной вспомнить эту картинку из моего детства. Никто не может, бывший в ту пору старше меня, рассказать мне, чем окончилась история обезьянки. Для меня лично вид крыш, дымовых труб, вид того, что открывается нам с так называемого птичьего полета, вызывает в памяти другую картинку. Не картинку, а картину – огромную, в раме неба, когда высоко-высоко, куда трудно-трудно смотреть, почти как на солнце, маячит золотая точка воздушного шара.
В детстве мне ни разу не удалось запустить змея. Я ни к кому, правда, не обращался за инструкцией – я знал, что необходимо некое соединение ниток, так сказать, у морды змея, именуемое путой, но какое именно соединение следует сделать, я не знал. Между тем от состояния этой злосчастной путы и зависело – полетит змей или будет бежать, скача по земле, рогатый в эту минуту, как козел.
Да, на козлов были похожи эти мои нелетающие змеи. Да-да, у них были рожки – концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаге. Хвост змея казался бородой такого злого и глупого козла.
Страдания эти мои происходили на Михайловском поле.
Возможно, что я собираюсь описать именно первое мое посещение театра.
Мы, то есть я и моя сестра, были приглашены богатыми Орловыми в театр на «Детей капитана Гранта». Эта пьеса показывалась тогда в Одесском городском театре с шумным успехом. Я не помню всего, помню только с того момента, когда я, сидя в том, что названо ложей, оглядываюсь и вижу золотистую, освещенную снизу стену, которая тут же начинает казаться мне не стеной, а уже летним солнечным садом, по которому прогуливаются фигуры в необыкновенных, как представляется мне, турецких одеждах. Это занавес. Это еще не театр. Это еще только занавес.
Сегодня, 30 июля 1955 года, я начинаю писать историю моего времени. Когда оно началось, мое время? Если я родился в 1899 году, то, значит, в мире происходила англо-бурская война, в России уже был основан Художественный театр, в расцвете славы был Чехов, на престоле сидел недавно короновавшийся Николай II… Что было в технике? Очевидно, еще не знали о мине, которой можно взорвать броненосец, не приближаясь к нему и неожиданно. Мина эта стала известна позже – в русско-японскую войну. Тогда же стал известен пулемет…
Итак, мое время началось примерно в дни, когда появилась мина и появился пулемет. Гибель броненосцев в морском бою, черные их накренившиеся силуэты, посылающие в пространство ночи прожекторные лучи, – вот что наклеено в углу чуть не первой страницы моей жизни. Цусима, Чемульпо – вот слова, которые я слышу в детстве.
Мина казалась ужасным изобретением, последним, что может придумать направленный на зло мозг, дьявольщиной.
– Мина Уайтхеда.
Кто-то произносит это над моим ухом – может быть, произносит книга… Она, мина, скользит под водой, попадает с безусловностью, неумолимо – и броненосец валится среди синей ночи набок, посылая белый луч, чем-то похожий на мольбу.
Вот начало истории моего времени. Для меня оно пока что называется Мукден, Ляоян – называется «а папу не возьмут на войну?».
Когда я был маленьким, в мире еще уделялось немало внимания фейерверкам. Редко какой праздник обходился без целого апофеоза из ракет, римских свечей, бураков, шутих… Из этого разноцветно-взрывающегося, стреляющего, пестро и огненно вращающегося материала организовывались даже законченные зрелища в честь текущих или исторических событий. Так, я помню большой фейерверк в память гибели русского крейсера «Варяг» в японскую войну.
Придя на место фейерверка на другой день, серым утром, можно было увидеть скелет его – палки, проволоки, веревки. В этом скелете можно было узнать очертания броненосца, который вчера, среди взлетающих синих и зеленых ракет, вертясь пунцовым огнем так называемого солнца, сгорал у всех на виду.
Можно было также находить пустые гильзы ракет – синие трубки, пахнувшие гарью, которые очень хотелось заставить жить еще раз. Нет, они были мертвы – просто картоны, пустые, постукивая, катились, подброшенные носком ботинка…
Где-то в каких-то полуподвалах таились пиротехники, по всей вероятности, немцы, умевшие все это делать. Я никогда не видел пиротехника, последнего из удивительных людей перед появлением авиаторов.
В пасмурный летний день – и тем более летний, что он был пасмурный, когда зелень прямо-таки красовалась на сером фоне, – мы с бабушкой стояли в парке над панорамой порта и распростертого до горизонта моря и смотрели на то интересное и новое для нас, что происходило в порту. Мое внимание останавливалось главным образом на некоей лошади – черной, которую вели под уздцы. Конечно, слово «гроб» фигурировало в нашем переговаривании с бабушкой, поскольку мы смотрели на похороны, но я не помню гроба. Наверно, был и катафалк, вернее всего, даже лафет, поскольку похороны были военные, но я смотрел только на лошадь. Я не знал тогда, что есть обычай вести за гробом военного его боевого коня, и, увидев это впервые, стал весь принадлежать этому зрелищу. Я не видел на таком расстоянии ни глаз лошади, ни губ, ни гривы, как рельефа волос, – просто двигался силуэт лошади, даже не силуэт, а скорее какое-то ватное ее изображение, из черной ваты, глухо-черное.
– Генерал Кондратенко, – то и дело повторяла бабушка.
Хоронили генерала Кондратенко, чей прах привезли из Маньчжурии, где он погиб на войне с японцами.
Вскоре похороны исчезли из поля нашего зрения. Невидимо для нас они проследовали из порта в город и пошли затем по улице, которая впоследствии стала называться улицей Кондратенко. Мы остались с бабушкой в парке среди серого, я бы сказал, полного, круглого воздуха, рассекаемого острыми листьями одних деревьев и, наоборот, получавшего еще большее округление от кругло ложившихся на него сережек других деревьев – мелких-мелких сережек, собранных в висюльки и венчики кремового цвета с каким-то треугольным присутствием зеленого.
– Генерал Кондратенко, – то и дело повторяла бабушка.
Дворец главнокомандующего находился на бульваре, на углу бульвара и той дуги, которая у входа на бульвар, дивной дуги из великолепных, в стиле русского ампира зданий.
Дворец и был одно из этих зданий, вот именно, как раз у конца дуги – или начала?
У входа во дворец шагал часовой, иногда входивший в полосатую будку. Вот какие древности мне известны – полосатые будки.







