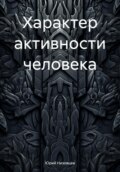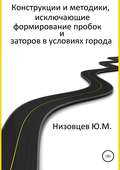Юрий Михайлович Низовцев
Новое – от противного – доказательство присутствия Бога
3.7. Человек в среде обитания.
Если все обычные живые существа в своем сознании неразрывны со средой, их окружающей, то каждый человек, находясь, как и они, в этой среде вместе с ними, отделяет в собственном сознании себя от среды и прочих людей.
На этом основании он уже способен по собственному разумению взаимодействовать как со средой, так и с другими людьми.
Тем самым человек попадает в новые в сравнении с остальным живым миром отношения, которые он так или иначе понимает и даже в определенной степени может ими управлять, меняя их по собственным планам в зависимости от настроения и сообразительности.
Степень разумения у каждого человека различна, отношения между людьми вследствие этого разнообразны. Тем не менее, самосознание, делающее это существо человеком, сразу же обращает его заинтересованное внимание на окружающие вещи и людей с позиции обладания ими под другим углом.
Это стремление к обладанию фиксируется в уме человека в основном трехзвенно.
Во-первых, обладание, обеспечивающее его персональное выживание, как-то: еда, жилище, орудия для добывания еды и т. п.
Во-вторых, обладание партнером противоположного пола для продолжения рода.
В-третьих, обладание всем остальным, что только возможно захватить.
Первые две позиции в основном совпадают с потребностями любого живого организма, которому требуются и еда, и нора, и зубы или когти, а также, как правило (есть еще и другие формы размножения), половой партнер.
Это совпадение объясняется необходимостью взаимодействия низшего сознания через органы чувств со средой для поддержания метаболизма, работоспособного состояния организма, его роста, воспроизводства и т. п., что происходит так или иначе автоматически, точнее, инстинктивно и рефлекторно на основе генетической памяти и не требует осмысления. Напротив, попытка осмысления столь сложной работы организма на данном уровне с вмешательством в нее человека чаще всего приводит к плачевным результатам. Человек, таким образом, в данной ипостаси так же неотделим от среды, как и остальные живые существа.
Что же касается последней позиции, то такое живое существо как человек, отделенное от среды в своем сознании, пытается каждое мгновенье понять выгоду от нее и использовать эту выгоду в борьбе с конкурентами. То есть присущий каждому живому существу естественный эгоизм, ограниченный у существа только необходимым для выживания, человек трансформирует в своем сознании в планомерное стремление захватить и подчинить себе всё, даже если эта данность пока ему и не очень-то нужна.
Эта потребность к захвату, которая в обычных живых существах имеет различные естественные ограничения, например, в питании, температуре воздуха или воды, в виде противодействия живых существ иных видов (хищников для парнокопытных), для сообществ людей, вырвавшихся на свободу вследствие понимания своей роли в этой среде, и имеющих ряд искусственных средств для эффективного противодействия среде, не ограничена ничем, кроме естественных возможностей интеллекта, органов чувств, технологической оснащенности, а также, с другой стороны, страхами, предубеждениями, религиозной мнительностью, здравым смыслом и т. п.
Однако при малейшей возможности человек стремится всё, что находится перед ним, сделать своим. И здравый смысл, и сознание кратковременности собственного существования, как правило, тут не способны устоять перед инстинктом потребления в расширительном смысле: вещи, деньги, власть, известность и т. д.
Таким образом, лицемерно утверждая обратное, отделаться от страсти к владению человек в обычной жизни (не в схиме) не в состоянии.
Поэтому можно беспроигрышно играть на только возрастающей страсти человека к потреблению. Это и происходит при капитализме, который основан на кредитных отношениях. Тем самым большая часть людей закабаляется практически на всю жизнь погружением в товарное потребление, которое только растет, обеспечивая доход капиталистам и деградацию населения в его сосредоточении на самом ничтожном из ценностей мира. Но всему есть предел, хотя бы в ограниченности ресурсов. Войны за них, недовольство обделенных, падение культуры, повсеместный рост зависти и разобщенности не обещает ничего с этой стороны, кроме распада цивилизации.
С другой стороны, так же беспроигрышно, можно играть на этой же струне с противоположной позиции, утверждая уверенно и благородно, что собственность есть зло, которое надо искоренить, чтобы достигнуть, наконец, всеобщего блага, счастья и процветания, избавившись от язв капитализма.
Марксисты и им подобные, отчасти по близорукости, отчасти лицемерно, игнорируя естественную страсть любого человека к владению, совершили в собственной фальшивой теории подмену этого неизбывного стремления каждого живого существа к владению противоречиями между трудом и капиталом, бедностью и богатством, уничтожение которых якобы должно привести сообщество к всеобщей любви и благоденствию.
Практические результаты этого подхода таковы.
За последние сто лет в ряде стран в результате революций и переворотов указанные противоречия были сняты, акулы капитализма были изгнаны или уничтожены, их собственность была отчуждена в пользу якобы всенародного государства с запрещением частной собственности.
Результат оказался весьма огорчительным как для населения этих стран, так и для самих государств.
Дело в том, что отнятая у людей собственность никуда не делась, а просто перешла в руки уже не капиталистов, а государственной бюрократии со всеми их прихлебателями на правах полного распоряжения ею этой узкой группой лиц у власти.
Бюрократическому аппарату, по определению, до людей нет никакого дела. Народ для бюрократии есть лишь орудие для достижения собственных целей, которые никак не связаны с благосостоянием и процветанием граждан собственных стран.
Эффективно распоряжаться собственностью, попавшей в ее руки, бюрократия в планово-распределительной системе якобы социализма, не способна без энтузиастов-собственников. Это приводит к катастрофическому отставанию в экономике от развитых капиталистических стран, низкому уровню жизни населения.
В конечном итоге все «социалистические» страны, кроме Северной Кореи и Кубы, вернулись в лоно капиталистических отношений, но и там они оказались, по сути дела, изгоями.
Через определенное время, почувствовав свою ущербность, обнищавшее и недовольное население стало активно выражать желание вернуться назад в распределительный социализм, по-видимому, посчитав его меньшим злом.
Получается, что оба этих магистральных направления развития цивилизации являются тупиковыми.
Сосуществование частной и государственной собственности в рамках государственной бюрократии, как показала недавняя практика, менее эффективно в любых ее пропорциях по сравнению с капиталистическим способом производства с элементами планирования. Причиной этого является неустранимость противоречий между частными собственниками и государственной бюрократией, для которой собственные интересы превыше всего.
Вследствие этого государственно-бюрократический капитализм не способен к наиболее эффективному экономическому функционированию, что характерно для капитализма с элементами планирования, и, таким образом, страны с экономикой в виде государственно-бюрократического капитализма явно проигрывают в конкуренции с ведущими капиталистическими странами.
Но капитализм в лице собственной лидирующей части – международных монополий – при всей своей эффективности, – основан на лозунге «Разделяй и властвуй».
Поэтому монополистический капитализм, в основном в лице транснациональных корпораций, без стеснения грабит развивающиеся страны, которые оказываются вечными должниками вследствие подкупа их элит заинтересованными группами монополистического капитала и превращения властных структур развивающихся стран в компрадоров, обеспечивая населению ведущих капиталистических стран более высокий уровень жизни и оставляя население развивающихся стран в перманентном состоянии раздрая и нищеты.
Тем не менее, капитализм лишает и граждан собственных стран перспектив развития, погружая их в пучину потребления, которому есть как ресурсный предел, так и предел, заключающийся в сужении сознания человека до уровня свиньи, непрерывно чавкающей и не обращающей внимания на всё остальное.
Кроме того, обделенное население стран, не относящихся к «золотому миллиарду», начинает поддерживать экстремизм разного толка, ведущий к войнам, неконтролируемой миграции и прочим всё нарастающим эксцессам.
Выхода из этой ситуации, если, конечно, не обманывать себя дальше, что всё как-то образуется, не просматривается.
Однако, как мы показали выше, человек есть лишь орудие сознания, которое покидает человеческое тело, если оно приходит в негодность.
По-видимому, и коллективное сознание человечества должно покинуть цивилизацию, если и она приходит в негодность.
Истинной причиной неизбежного распада любой цивилизации является информационный коллапс, происходящий вследствие ускоренного роста потребляемых информационных потоков (уплотнения собственного времени цивилизации), которому есть естественный предел по объему обрабатываемой информации.
Именно при достижении этого предела в первую очередь, а не вследствие загнивания негодной системы, являющегося лишь следствием, довольно быстро происходят кардинальные сбои в органах управления на всех уровнях: распоряжения властей не выполняются, подача электроэнергии прекращается, транспорт останавливается и т. п.
Начинается всеобщий хаос, развязываются войны за убывающие ресурсы, приходят голод, разложение общественного строя, эпидемии и т. п. [8, гл. 5].
Основные причины завершения процесса развития цивилизации заключаются как в конечности любой структуры в бытии, так и в уровне развития сознания, которое есть двигатель цивилизационного процесса. Этому уровню соответствуют временные границы любой цивилизации трехмерного измерения.
Форма, в которой выражается процесс возникновения и краха цивилизации, есть постепенно нарастающий объем информации, проходящей через совокупное сознание составляющих цивилизацию людей вследствие его развития, приводящего к освоению все новых сфер для мысли и деяний.
Рост информационных потоков означает уплотнение собственного времени цивилизации, поскольку время любого живого существа, а также и совокупности живых существ – в данном случае людей – в действительности есть информационный процесс, в ходе которого материальные объекты распознаются сознанием сканированием им окружающего имеющимися в его распоряжении средствами (органами чувств, в сочетании с обрабатывающими центрами).
Естественный предел этому процессу наступает при невозможности имеющимися средствами, а это – человеческий мозг, эффективно обрабатывать лавинообразный поток информации. На этом пределе (точка сингулярности), проявляясь информационным коллапсом, собственное время цивилизации завершается [5, гл. 2, 3].
Имеет смысл в данном контексте отметить следующее.
До возникновения цивилизации в архаичном обществе в людях ценились сила, ловкость, знания целебных трав, умение эффективно охотиться, приготавливать съедобные блюда и т. п.
Всё это способствовало взаимодействовать с окружающей средой и конкурировать с остальными живыми существами с минимальным использованием высшего сознания, поскольку вследствие отсутствия письменности, удобных коммуникаций между редкими поселениями, различиями в устной речи обмен знаниями и умениями был затруднен, абстрактное мышление, логические построения находились в зачаточном состоянии.
В результате, для выживания и развития в дополнение к инстинктам и рефлексам приходилось применять практически лишь такое сочетание высшей и низшей форм сознания как озарения шаманов.
Внешне первобытные люди мало чем отличались от приматов.
Тем не менее, их основная особенность состояла в появлении и постепенном развитии высшего сознания, так как они уже осознали себя отделенными от среды и, вследствие этого, стали пытаться использовать ее не только инстинктивно и рефлекторно, но и целесообразно – планируя свою деятельность не на один день вперед.
Они начали преобразовывать собственное окружение, строя разнообразные укрытия от непогоды, придумывая разные способы приготовления пищи, изготовления и применения орудий труда и охоты, облегчающие эти занятия.
Высшее сознание для живого существа означает появление у него дополнительных формообразующих способностей, наличие которых он осознает.
В частности, глядя на отполированную дождем гладкую поверхность камня или поверхность дождевой лужи, живое существо, сознающее себя, понимает, что там находится именно его отражение, и это обстоятельство дает ему возможность изменить свой внешний вид, заплетя косички или сменив одеяние. Подобное понимание это существо-человек также пытается применять и искусственно, изображая, например, на камне охрой себя на охоте за животными.
Подобная самодеятельность, проистекающая из возникшего понимания собственного нахождения в текущем времени с ночью и днем, закатами и рассветами, зимой и осенью, к которым уже можно применяться со знанием дела, не могла основываться только на инстинктах и рефлексах. В дополнение к ним человек постиг себя как существо, пребывающее не только среди вещей и соплеменников, но и отдельно от них. Иначе говоря, он приобрел понимание собственного существования в мире со всей свободой проявления активности, которую он способен выказать сознательно в имеющемся окружении, или самосознание, которое у всех остальных живых существ отсутствует.
Удачные примеры использования нового свойства передавались потомкам как устно, развивая речь, так и с попытками фиксировать их в виде рисунков, что в конечном итоге привело к возникновению письменности и существенно ускорило развитие человеческих сообществ, благодаря накоплению и передаче опыта в виде наглядных посланий, указаний, советов.
Попытки не только охотиться, но и отбирать некоторых животных для разведения привели к возникновению скотоводства, а сбор плодов и злаков постепенно перерос в рассаживание ряда злаков и плодовых деревьев.
Появившийся вследствие этого избыток продуктов послужил основанием для развития обмена ими, который со временем преобразовался в торговые отношения.
С появлением новых отношений, и образованием тем самым цивилизационной схемы, к знаниям и умениям добавилось частное владение имуществом, добытым различными, в том числе и неправедными способами, превышающим естественные потребности человека.
Понятно, что любой вещью можно распорядиться во благо не только себе, но и людям, и наоборот.
В архаичном обществе частная собственность отсутствовала, так как продукты, вещи распределялись на всех равномерно. Такой подход диктовался выживанием всего сообщества в силу низкой производительности тех же вещей и продовольствия. Естественно, потребляемые вещи и продукты считались благом именно для всех. Поэтому термин «добро» с тех времен имеет два значения (смысла): добро-вещи и добро-благо.
В русском языке термин «добро» и сейчас понимается, с одной стороны, как вещи, имущество, достаток; а с другой стороны, как благо, хорошее, полезное, честное.
В английском языке термин «добро» (good) так же понимается, как вещи, продукты (goods), и как благо, благость (good).
Таким образом, понятие добро имеет значение не только в качестве вещей, продуктов, но оно трансформировалось в термины «добрый», «доброта», «благо», то есть в некую позитивную нравственную категорию.
Однако это первоначальное отношение к потребляемым вещам и продуктам в виде общей собственности с развитием торговых отношений, формированием государств, различных сословий начинает терять свой изначальный смысл, превращаясь из добра для всех в имущество для отдельных обладателей.
Таким образом, добро-вещь в развитом обществе начинает пониматься не в качестве общего блага, а как благо для конкретных (частных) собственников вещей. Другими словами, добро (имение, владение) переходит в представление людей в пользование этого добра (имущества) только во благо его владельцев.
Аналогичный процесс трансформации «добра» в «имущество» произошел не только в России. Например, в английском языке good – благо с незначительной добавкой в виде «s» (goods) переводится как товар, имущество.
По-видимому, для устранения двусмысленности термина «добро» в русском языке появились такие понятия общего блага, благополучия, как «хорошо», «ладно», а в английском языке – термин «well» (хорошо, отлично, удачно, благополучно).
Естественно, обделенные имуществом, посчитали такое положение для себя несправедливым, фальшивым, бесчеловечным, что не могло не вызывать у них досады и ее крайнего выражения – злобы. Все эти термины в различных языках имеют родственные корни, и их смысл сводится именно к плохим отношениям, причиной которых является различная степень владения собственностью.
Поэтому, скорее всего, термин «зло» возник именно во время формирования собственнических отношений с закреплением владения законами в противовес слову «добро». Эти термины выражали тем самым противоположное отношение людей к собственности, которая может быть и добром в смысле общего блага, но является чужим и несправедливым в соотнесении с конкретными собственниками, провоцируя ненависть, злобу, что можно обобщить термином «зло».
Так, одно и то же образование – вещи – в разных отношениях произвело два полярных понятия, которые как в религии, так и в морали превратились в якобы вечно существующие категории – добро и зло. Их различная трактовка не меняет первоначального смысла этих категорий потому, что, как было указано выше, эти понятия возникли в отношении владения и не более того.
Однако в религии это противоположное отношение к владению в умах людей превратилось в вечную борьбу добра и зла в мире.
То есть религия игнорировала, а скорее, не захотела понять указанный выше исток происхождения добра и зла, абсолютизировав эти понятия под предлогом необходимости борьбы света с тьмой, хотя на самом деле речь идет о различных намерениях людей, которые вытекают из противоречивости низшей и высшей форм сознания в каждом человеке, находящихся в перманентной борьбе и столкновениях.
Сгладить эти противоречия невозможно. Поэтому человек развивающейся цивилизации в соответствии с инстинктами низшего (животного) сознания всегда будет стремиться умножать добро (имущество) для себя, считая противников этого процесса конкретным злом для себя.
Высшее сознание, в противовес этому эгоистичному стремлению, будет провозглашать благом раздачу имущества, что наиболее ярко выразил Христос: «Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное». (Евангелие от Матфея. Гл. 5, п. 3).
В этом высказывании он ясно дает понять, что благо, или добро в мире стремления к владению недостижимо.
Существо категорического императива Канта сводится к благу (добру), то есть к идее совершения поступков человеком в отношении остальных людей таким образом, как если бы он совершал их для себя.
Тут – в своем категорическом императиве – Кант так же отрывает «добро» от естественных причин, идеализируя тем самым человека искусственным отстранением от его животной природы (низшего сознания).
На самом деле, неустранимость производного от низшего сознания человека эгоцентризма отрицает приведение человека и человечества к абсолютному добру (благу) и гармонии, но провозглашает непрестанную борьбу в рамках добра (собственности).
Любопытно также, что для человека степень владение самим собой определяется понятиями «ум» и «мудрость», которые до сих пор четко не прояснены, хотя о них существует множество рассуждений, но все они не имеют под собой четко очерченной базы.
На самом деле ум, интеллект, разум, рассудок есть продукт той или иной эффективности действия центров, обрабатывающих поступающую информацию от органов чувств, что вполне сопоставимо с работой компьютера, который, как известно, самостоятельно ни Америку, ни новые законы открыть не способен.
Рассудок действует в любых живых существах.
Так что, с помощью ума осуществляется более или менее эффективное взаимодействие человека с окружающей средой и соплеменниками. Поэтому ум, как ни странно, стоит ближе к низшему сознанию в человеке, чем к высшему. Ум, стало быть, прагматичен, и этим ограничен.
Под мудростью же люди интуитивно понимают владение человеком более высокого, чем ум свойства, которое они определяют, как взгляд на всё происходящее со стороны; этим свойством обладают немногие и оно более чем с умом связано с самосознанием.
Действительно, высшее сознание дает возможность человеку понять самого себя. Оно присуще всем людям, но осознают его присутствие в себе и способны этим пользоваться немногие. Понимающие это присутствие могут посмотреть на себя со стороны, увидеть собственные недостатки и преимущества, оценить их, но не для того, чтобы успокоиться в сознании собственного знания и, некоторым образом, превосходства, а для того, чтобы определять смысл собственной активности.
Сам же этот смысл по большому счету состоит не в стремлении к чему-то потустороннему, не в стремлении к всеобщей гармонии и не в стремлении к устоявшимся ценностям этого мира, но – в постижении нового, манящего, представляющегося наиболее справедливым и вместе с тем дающего наибольшую степень свободы, несмотря ни на что. Мудрость бескорыстна, и тем самым – безрассудна.
Формула «труд создал человека» так же причастна к владению. Ее смысл сводится к тому, что живое существо вдруг овладело собой (поняло себя как отдельное от среды) с помощью труда.
Сомнительность этого утверждения не стоит доказывать, поскольку известны многие чрезвычайно трудолюбивые существа, которые сотни и десятки миллионов лет так и остаются в том же качестве, например, термиты, пчелы, некоторые виды обезьян, умеющие собирать и обрабатывать плоды коллективно.
Очевидно, все эти живые существа, умея трудиться, не имеют высшего сознания, которое, являясь специальной программой самообучения и постижения, не вырабатывается трудом, а вкладывается в живые существа, потенциально способные к труду и обладающее гибким интеллектом. Именно этот качественный переход от низшего сознания к сочетанию низшей и высшей форм сознания не может объяснить наука, так и не нашедшая ни одного убедительного основания для внезапного появления у одного из подвидов приматов самосознания, тогда как аналогичные приматы до сих пор его не обрели.
Данный процесс появления высшего сознания напоминает введение программистом в компьютер дополнительной программы, придающей ему новые функции.
Этим условным программистом может быть только Единое сознание, формирующее бытие в целом через общее время, а также индивидуально – через живые существа, в свою очередь формирующие в рамках общего времени собственное время.
Если оказывается, что какие-то существа потенциально способны овладеть своим временем, то есть понять, что они существуют в нем, то такие существа являются кандидатами на перевод их из слитых со средой существ в существа, способные отделяться от среды сознательно.
Именно так, а не иначе, появился человек, хотя освоить заданную ему программу оказалось не так-то просто, но всё же – результат налицо.
Тем не менее, потенциально любое существо с низшим сознанием есть основа жизни, без которой высшее сознание не может обойтись. Просто живое создает не только базу для проявления высшего сознания, но и – промежуточную оболочку между ним и неживой материей, снабжая человеческое тело практически всеми энергетическими ресурсами, являясь его пищей, а также создает живой и бурлящий фон его жизни.
Человек без низшего сознания есть нонсенс – он не смог бы владеть без него собственным телом, не говоря о взаимодействии с окружающей средой.
Двойственность сознания человека состоит в том, что в человеке прежде всего действует низшее сознание, обеспечивая человеку существование, но вместе с тем всячески препятствуя достижению им высшей гармонии в смысле всеобщего добра и справедливости, то есть того, чего больше всего желает высшее сознание.
Тем самым создается непреходящее противоречие, вызывающее внутреннее напряжение в каждом человеке, выражающееся в его собственных разнообразных и часто противоположных стремлениях, а также в аналогичных отношениях людей друг с другом, являющееся непременной базой для развития как самих этих существ, так и их сознания.
Поэтому, несмотря на все умствования философов и ученых, утверждающих, что гармоничное существование человечества в бытии возможно (золотой век, коммунизм и т.п.), надежды простых людей на счастливый и справедливый финал в бытии повисают в воздухе.