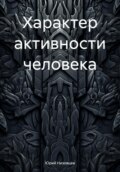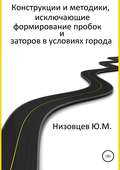Юрий Михайлович Низовцев
Новое – от противного – доказательство присутствия Бога
Отсюда следует, что сам человек обозначает и выражает высшее сознание, являясь его орудием, с одной стороны, как информационное звено, привязывающее Единое через голографическую проекцию к бытию, а с другой стороны, как полноправный представитель единого сознания, осознанно действующий в конечных реальных (с движением) образованиях на основе проекции Единого в виде сообществ; без подобных индивидуальностей, противодействующих друг другу и вместе с тем сотрудничающих между собой, единое сознание оказалось бы бессильным.
Принцип существования человека в мире состоит именно в стремлении к отграничению истинного от ложного. В противном случае, никакого разумного развития не случается, наступает застой или хаос.
Этот же принцип отграничения истинного от ложного обусловливает возможность свободного развития человеческого сознания, которое способно, если захочет, отделить истину от лжи, хотя последняя часто выгодна с меркантильной позиции.
Всё, что ни есть на свете, то есть то, что первоначально проявляется в человеческом сознании, является истинным, поскольку сознание оказывается способным «выделять» и расшифровывать именно это из безбрежного Единого, или переводить в информацию, формируя тем самым свое собственное время и создавая благодаря этому условия и пространство для событий, то есть собственную жизнь.
Представляющееся «вещью в себе» безвременное, бесконечное Единое, «распаковывается» органами чувств человека каждый миг – достаточно оглянуться вокруг.
Этим самым оно предоставляет человеческому сознанию возможность признать его существование без веры в нечто фантастичное, всемогущее и внешнее.
Человек, как образ Единого, творит свое «настоящее», естественно, при поддержке Единого, которое не может не отзываться на него.
Человек часто не может адекватно оценивать получаемую им каждое мгновенье информацию, тем более что она складывается с извлекаемой человеком из памяти по ходу дела более ранней информацией, которая могла подвергнуться искажению. И это сложение не всегда оказывается подходящим для текущей жизни. Возникают ошибки, одни и те же факты интерпретируются по-разному.
Выбор из различных соображений не всегда осуществляется с пользой для дела. Но текущая практика позволяет понять и исправить ошибки, если в них не упорствовать. В этой борьбе, по сути, с самим собой человек определяется в жизни, то удаляясь от понимания сущности приходящих к нему копий фрагментов из Единого, то приближаясь к ней, но, в сумме, продвигаясь всё дальше в понимании действительности и, главное, в понимании самого себя, точнее, в понимании себя каждым индивидуальным сознанием.
3.3. Частичное открытие формообразующих способностей в бытии для человеческого сознания.
Для того чтобы распознать себя или любой другой объект человеку надо иметь, определенные формообразующие способности. Тогда он найдет во всем, что отображается, например, в зеркале, ту совокупность сведений, которая сведется для сознания конкретного человека в форму того, что он ищет, например, – в его собственный облик, то есть получить информацию. Лишь это свойство человеческого сознания может привести его к приобретению адекватной информации, в частности, о себе в зеркале.
Реализуется это свойство сознания через соответствующий набор органов чувств.
Сознание любого живого существа, а не только человека, создает собственный мир, свое «настоящее», сканируя через органы чувств окружающее, проникая этим самым локально в необозримое Единое.
Естественно, никакое индивидуальное сознание, имеющее определенный уровень развития, не может охватить ощущениями своего тела-носителя и своим разумением всё бесконечное Единое; но оно может теми средствами, которые есть у него (человек имеет пять органов чувств), и теми формами, которые ему в соответствии с его уровнем развития и типом носителя предоставляет Единое сознание, распознать в Едином соответствующие его жизненному циклу вещи, и последовательным необратимым копированием через паузу формировать собственное время, «преобразующееся» в каждом индивидуальном сознании за счет выпадения паузы в нем между импульсными сигналами, проходящими по каналам органов чувств, в красочное, движущееся и меняющееся «настоящее», в котором это индивидуальное сознание может существовать в компании с другими индивидуальными сознаниями среди распознанных и скопированных вещей, оставаясь нераздельно с собственным носителем, по крайней мере, до поры до времени в этом существовании и ощущая его.
Человек воспринимает своими органами чувств не независимые от него объекты в определенной форме, а сам формирует автоматически свое окружение и собственное тело в самом себе – в своих обрабатывающих центрах, поскольку изначально среда есть всего лишь обновляющиеся сознанием через органы чувств высокочастотные информационные копии вещей, которые «растворены» в Едином.
Эти копии конвертируются в каждом индивидуальном сознании, вследствие физиологических особенностей организма, воспринимающего дискретные пакеты информации слитно, в привычные для нас движущиеся и меняющиеся вещи именно потому, что только среди них и в них, а не в высокочастотно-волновой среде, могут обретаться, меняться, расти, размножаться и развиваться живые существа.
Однако объекты бытия отнюдь не производятся сознанием, как это представляется субъективным идеалистам, отрицающим объективное существование материи. На самом деле они формируются человеком, точнее, его сознанием через органы чувств, из вполне материальных высокочастотных копий в виде пакетов информации путем преобразования приходящих импульсных сигналов, содержащих соответствующую информацию, в плавную картину движущихся вещей со скрытой помощью единого сознания.
Аналогом этого процесса является обычный телевизор с тем отличием, что, если на экране монитора, подобно сну, движутся лишь преобразованные из импульсных радиосигналов образы вещей, не являющиеся «плотной» материей, то в человеческом сознании (сознании любого живого существа) в процессе последовательного сцепления пакетов-импульсов информации происходит преобразование волн преимущественно в корпускулы, то есть – в изменяющийся мир вещей, по-видимому, по принципу, близкому в принципу действия 3D-принтера.
Если крот не видит неба, солнца и звезд, то эти объекты для него не существуют как вследствие отсутствия соответствующих органов чувств, так и отсутствия соответствующих формообразующих способностей. Хотя, конечно, и солнце и звезды и прочее никуда не деваются, поскольку их формирует Единое сознание через всю совокупность живых существ, как бы покрывая ими все разнообразные живые существа. Но настоящее время крота, в отличие от настоящего времени человека, с этими объектам, кроме земляной массы, непосредственно не контактирует, хотя и находится в их зоне.
В общем случае, для того чтобы получить какие-либо данные, человеку надо сначала сформулировать предмет своего желания – сознательно или интуитивно (окружающая среда формируется им автоматически со скрытой помощью единого сознания), затем обратиться к тому, где эти данные могут быть, и сканируя это «поле», распознать имеющимися средствами (ощущения в сочетании с обрабатывающими полученные данные центрами, или разумом) искомые объекты, которые, проявляясь в виде копий в его сознании, распределяются им в определенном порядке, составляя окружающее.
Кроме того, мало увидеть в зеркале свое изображение какому-то живому существу, чтобы узнать в нем себя: из всех живых существ себя может узнать в зеркале только человек.
Остальные живые существа не узнают себя в зеркале, то есть они не способны идентифицировать собственное изображение с собой, но, тем не менее, они распознают в соответствии со степенью собственной разумности то, что нужно им для удержания себя в существовании; другими словами, эти существа живут, не понимая себя, а лишь ощущая, однако именно эта способность ощущать удерживает просто живое в существовании – живые существа не хотят лишаться ощущений.
Если вернуться к аналогии с зеркалом, то сама по себе его поверхность пуста – она есть ничто без отношения к чему-то. Но эта поверхность наполняется тем или иным содержанием в виде изображений, если потребители этого содержания начинают контактировать с ней, выделяя на этой поверхности знакомые формы и пропуская незнакомое, которое их сознание не может расшифровать. Тогда это ничто предоставляет всё, что могут идентифицировать в нем данные потребители.
Так и безвременное, бесконечное и неподвижное Единое откликается на запросы сознания через ощущения, превращаясь в сознании из Ничто во Всё, которое не есть Всё вообще, а представляет только то, что сознание может понять собственными средствами в данный момент.
Таким образом, зазеркалье есть своего рода аналог отнюдь не потустороннего, а истинного основания сиюстороннего мира, поскольку только оттуда (из Единого через его проекцию) можно получить всё, но только получить это собственное Всё можно, если имеется представление об этом всем и если имеются соответствующие органы чувств.
Другими словами, только в безвременном Едином можно находить сканированием понятные сознанию формы (которые оно способно расшифровать). Эти формы в виде копий проявляются в сознании, становясь для него в конечном виде уже не информационно-волновой материей, а конвертируясь в известное нам «плотное» окружение.
Время любого живого существа, в частности, и человека в действительности есть информационный процесс, в ходе которого материальные объекты распознаются сознанием сканированием им окружающего имеющимися в его распоряжении средствами (органами чувств в сочетании с обрабатывающими поступающие сведения центрами).
Поступающие в сознание, точнее, в его соответствующие центры, от органов чувств импульсы (пакеты информации) содержат закодированные сведения о материальных объектах, которые сознание оказалось способным идентифицировать. Эти сигналы сливаются в сознании в картину непрестанно меняющегося окружающего, поскольку пауза между поступающими друг за другом импульсами нивелируется в сознании живого существа за счет определенной длительности обработки каждой порции информации и возникающей тем самым задержки, делающей для сознания непрерывным дискретный процесс поступления информации (порог восприятия).
Иллюзия плавного течения времени создается тем, что сознание человека в силу его физиологических особенностей не способно заметить импульсный характер поступающей информации.
Изменение скорости «течения» времени для конкретного человека, или его собственное время, можно квалифицировать как изменение объема обрабатываемой его центрами информации или изменение скорости ее обработки, что не имеет прямого отношения к «внешнему» времени, хотя каждый человек полагает внешнее, как бы окружающее его, время, единственно возможным. Поэтому фактор изменения хода собственного времени, о котором он не ведает, человек считает чудом или совершенно необъяснимым феноменом.
Собственное время каждое живое существо формирует само при скрытом содействии единого сознания, а вся совокупность живых существ, представляющих индивидуальные сознания, формирует общее, или внешнее время, в котором пребывает каждое живое существо.
Формирование собственного времени каждым живым существом протекает автоматически, точнее, под контролем единого сознания в рамках имеющегося набора органов чувств и формообразующих способностей сознания этого существа. С помощью последних органы чувств распознают необходимые фрагменты Единого, которые превращаются сначала в последовательные информационные пакеты, а потом, после их обработки и объединения, конвертируются в текущее время и движущиеся в пространстве вещи.
То же происходит и с человеком, который по строению есть примат, но с тем отличием, что целевые программы самосознания позволяют ему распознавать осознанно окружающие объекты, используя их, в отличие от животных, которые не вникают в суть предметов, не чисто утилитарно – для выживания, но понимая сразу или постепенно их предназначение, применять окружающие предметы для собственных целей, всячески комбинируя и изменяя их.
Тем самым человек получает, почти как Бог, способность самостоятельно создавать новые миры из обычных предметов и предметов, придуманных им самим, тем не менее, находясь во «внешнем» времени, которое, по существу, формируясь единым сознанием, является необходимым условием (как бы домом) для существования единого сознания уже в разделенном виде – в качестве индивидуальных сознаний, представленных живыми существами, обретающимися в своем собственном времени, но в рамках «внешнего» времени, которое предоставляет единое сознание всей совокупностью живых существ.
3.4. Смерть.
Экзистенциалисты, рассуждая о смерти, подразумевают жизнь, поскольку смерть, как они полагают, есть отсутствие существования, которое их не интересует. Значит, о смерти можно говорить только в контексте приближения к несуществованию.
В частности, Хайдеггер пишет о смерти так: «Смерть мы эксзистенциально осмыслили как характеризованную возможность невозможности экзистенции, то есть как прямую ничтожность присутствия. Смерть не присовокупляется к присутствию при его «конце», но как забота присутствие есть брошенное (т.е. ничтожное) основание своей смерти. Пронизывающая бытие присутствия ничтожность обнажается ему самому в собственном бытии к смерти. Заступание делает виновное-бытие впервые очевидным из основы целого бытия присутствия. Забота равноисходно таит в себе смерть и вину. Лишь заступающая решимость впервые понимает способность-быть-виновным собственно и цело, т.е. исходно» [20, с. 306]; «… В своей смерти присутствию предстоит себя просто «изъять» [20, с. 308].
Тем самым экзистенциалисты фактически снимают проблему смерти и совершенно адекватно переносят акценты на жизнь человека, которая протекает всегда в преддверии смерти, поскольку грядущая смерть «мобилизует» каждого, и он ведет себя соответственно, зная о смерти.
Однако такой взгляд на смерть и жизнь слишком поверхностен, так как жизнь непродолжительна, в ней человеку мало что удается совершить даже при очень ответственном поведении. Поэтому такая «разовая» жизнь не может дать удовлетворения: люди в ней слишком много печалятся и невообразимо торопятся, стремясь насладиться ее «животными» удовольствиями, которые так же быстро проходят.
Такой подход к смерти и жизни не очень-то интересует обычного человека. Ему требуется раскрытие тайны смерти и утешение.
Эту тайну вместе с утешением пытаются предоставить материалисты и религия, которые предлагают два ее различных толкования.
Одно, материалистическое, гласит: смерть означает переход человека в небытие – всё для него кончается. И это, как кажется некоторым, замечательно, потому что для любого человека после смерти нет ничего и ему не о чем беспокоиться. Как говорится: отмучился и успокойся навсегда. Правда, особой тайны и качественного утешения здесь нет. Но всё же многим этот взгляд при жизни подходит. Тем не менее с приближением конца и к ним приходит беспокойство и начинают одолевать мысли о душе и возможности иной жизни, потому что небытие не интересно.
Другое, например, христианское толкование, полагает, что смерть есть возвращение души к Богу с различными вариантами (ад, рай, чистилище, но не более того). Эта толкование смерти и ее последствий для человека кажется более привлекательным, так как что-то обещает, правда, неизвестно что конкретно и мало, поскольку душа попадает туда, откуда нет возврата, а хотелось бы вернуться и снова неплохо пожить; но всё же, в отличие от «материалистического конца», такой вариант посмертного исхода утешает некоторой определенностью в плане сохранения сознания (души) в вечности, правда, непонятно зачем.
Однако оба подхода берут за основу человека, то есть конечное, и поэтому неадекватны.
Нет человека и нет проблем для него в мире, по мнению материалистов, в силу исчезновения человека, как такового.
Нет человека и нет проблем для него опять же в мире и по результатам христианского отношения к смерти, так как воздаяние за содеянное при жизни в мире переносится на внешнюю ответственную силу. Однако это – само по себе – нонсенс: сам ты натворил, а решать за тебя будет «дядя». Справедливее было бы самому оценивать степень собственной вины, раз уж для тебя всё кончено, лучше всех зная о содеянном, а не полагаться на непонятную силу, да еще и решающую всё окончательно и бесповоротно, поскольку у тебя другой жизни в мире не предвидится, как полагают церковники.
Таким образом, оба эти толкования смерти схожи в своей основе и по итогу: мир для человека исчезает вместе с ним после смерти.
Любопытно, что как материалисты, так и церковники своим толкованием факта смерти опровергают свои же концепции бытия.
Материалисты, считая высшим проявлением саморазвития материи сознание человека, вместе с тем своим толкованием смерти как перехода человека от жизни к небытию тем самым уничтожают навсегда данное высшее проявление материи в его конкретном, личностном выражении, сводя это высшее выражение к нулю, к обычной вещи, которая никому не интересна, и факт появления и исчезновения которой никого не волнует. Само по себе это означает, что саморазвитие материи, как таковое, – абсурд: от чего ушли, к тому же и пришли.
Церковники совершают иную ошибку. Они, соглашаясь с уничтожением тела как вещи, «убирают» сознание человека в «ящик» рая, ада или еще чего-то навсегда, даже если человек в жизни практически ничего не совершил (а так чаще всего и бывает), что само по себе – нонсенс, поскольку фактически уничтожает сознание, удаляя его на «вечное хранение».
Как бы то ни было, но никто не может отменить конечного и бесконечного. Бесконечное само по себе невыразимо. Поэтому оно волей-неволей должно как-то обратиться к конечном, или – ко времени для собственного хоть какого-то выражения. Однако конечное не может длиться бесконечно как отдельное в своем существовании где бы то ни было, но может длиться бесконечно дискретным образом, то есть, обновляясь полностью, и в этом обновлении становясь иным каждый раз, что можно трактовать как смерть и рождение.
Частота обновления может быть какой угодно в пределах мыслимого. Только таким образом бесконечное может проявляться в конечном. Но для этого оно должно быть бесконечным и вместе с тем – конечным в бесконечности обновления, то есть находиться в двух ипостасях и содержать в себе две противоположности – активное и пассивное, что не так уж невероятно, поскольку в бесконечности есть всё.
Таким образом, единственным способом выражения и проявления бесконечности в конечном бесконечно является сочетание самой бесконечности, или вечного Единого с его частотной обновляющейся проекцией в виде голограммы, где активное «производит» изменения в копиях вещей из Единого, «создавая» базу для собственного изменения, то есть получая жизнь и развитие, но в «прерывистой» форме, умирая и возрождаясь на всех уровнях в форме вещей, «сцепленных» с сознанием, которому тоже вместе с вещью-телом приходится умирать и рождаться, испытывая все тяготы и ужас в этих процессах, но оставаясь в основе бессмертной. Так что с этим конечным бесконечному сознанию приходится мириться, потому что иные варианты существования бытия и всего, что находится в нем, надо полагать, крайне маловероятны.
Поэтому подход к смерти должен быть иным по существу, так как она для бесконечного сознания отсутствует, присутствуя лишь в конечном, или временном выражении сознания, – в частности, в человеке, в котором сознание сочетается с вещными компонентами. Смерть для человека есть момент перехода сознания к иному существованию, отличному или подобному предыдущему, что определяется текущей жизнью конкретного человека.
Тут уже центр тяжести переносится с человека на индивидуальное сознание, растущее вместе с человеком, развивающееся в нем при его жизни, и уходящее от него как конечного к следующему росту и развитию в другом конечном, соответствующем уровню индивидуального сознания. Перипетии каждой жизни сохраняются в памяти любого индивидуального сознания, не исчезая навсегда, и в этом отношении каждый человек, как личность, вечен в своем сознании, которое, собственно, и создает все реалии его жизни в виде бытия.
Бессмертие для человека не только невозможно, но и бессмысленно, поскольку мыслящим и деятельным в понимаемой им собственной индивидуальности его делает сознание, а тело человека – лишь орудие сознания. Потеря тела для индивидуального сознания означает отнюдь не катастрофу, но – переход того же сознания к новой жизни в ином теле, затем – к следующей жизни и так далее. То есть человеческое сознание в своей индивидуальности тем самым обретает не только бессмертие, но и бесчисленные новые жизни.
Даже кратковременная потеря сознания (частичный уход сознания) превращает человека в беспомощный «овощ», т. е. – в существо, выражающее себя лишь в естественных отправлениях, типа метаболизма, дыхания, что означает ничто в отношении мыслительно-проектирующих способностей. Примером этого явления может быть обморок или сон – данный факт дополнительно подтверждает кардинальную роль как индивидуального сознания, так и его самосознающей ипостаси в жизни любого человека.
Это сознание, оставаясь неповторимой индивидуальностью и не теряя ее, вместе с тем в каждом существовании обновляется, что гарантирует ему отсутствие застоя и неубывающий интерес ко всему приходящему в силу его новизны.
Поэтому заблуждением является распространенное мнение относительно безвозвратной утраты «наработанной» в течение жизни личности человека по его смерти.
Это мнение ошибочно, поскольку акцентирует внимание на человеке, то есть – живом существе.
Но человек – лишь орудие сознания, конечное образование в отношении его тела – полная потеря сознания (смерть) превращает человека в быстро распадающуюся вещь. Так что конкретная человеческая личность в жизни есть проявление соответствующего индивидуального сознания в его бесконечном развитии, и эта личность неотделима от сознания.
С одной стороны, личность конкретного человека в его жизни запечатлевается в соответствующем индивидуальном сознании навсегда – иначе, для чего бы сознанию проходить эту жизнь? Сознание всегда может вспомнить эту жизнь, точнее, себя в ней, снова окунуться в нее, сравнить себя «нынешнего» с прежним своим обликом и содержанием. То есть эта жизнь с «привязанной» к ней личностью всегда «висит» в сознании и исчезнуть не может, поскольку она и есть сознание, представленное в конкретной обстановке со всеми последствиями собственной деятельности.
С другой стороны, любое индивидуальное сознание не может стоять на месте: оно существует только в изменениях, стремлениях. Сознанию требуется изменение обстановки, оно должно решать новые проблемы, проходить иные испытания, что невозможно без череды разных жизней. Поэтому содержание и настрой сознания меняются именно в силу его основного свойства – активности.
Парадоксально, но эти изменения способствуют восстановлению ядра сознания вследствие необходимости для каждого индивидуального сознания адекватно реагировать на них.
Так что собственное частотное ядро сознания, его как бы «несущая волна», удерживается каждым индивидуальным сознанием практически неизменным, функционируя по-прежнему именно в результате непрерывной корректировки и восстановления по адекватным реакциям (в той или иной мере сознательным) на действия в данном случае человека, компенсируя происходящие сбои в собственной частотной основе.
То же, но с иной степенью осознанности в отношении собственных действий происходит и с любым другим живым существом, сознание которого никуда не исчезает и ни в чем не растворяется.
Тем не менее, внешнее, накладывающееся на эту «несущую волну», то есть облик и настрой сознания могут существенно меняться, поскольку сознание не робот. Оно в человеческих жизнях поддается чувствам, совершает ошибки, но, осознавая себя, оно вместе с тем несет вполне понятную ему ответственность за собственные действия.
Поэтому настрой сознания в человеке всё время меняется – радость переходит в отчаянье, печаль сменяется возбуждением в предвкушении перемен, важность и уверенность в своих мыслях и действиях сменяются растерянностью и потерей всех надежд.
И нельзя сказать, что сознание в человеке (любых существах, сознающих себя) становится лучше или хуже, так как оно испытывает себя в разных ситуациях и соответственно проявляет себя по-разному. Возможно, ему хочется быть более совершенным, вершить судьбы всего, облагодетельствовать всех и вся, а получается наоборот. Тем не менее вечная жизнь сознания предоставляет ему неограниченные возможности, кроме скуки, поскольку информационная основа жизни есть необратимая последовательность перемен, к которым волей-неволей надо применяться.