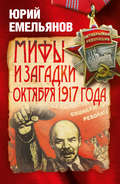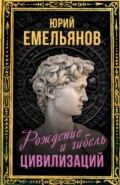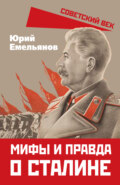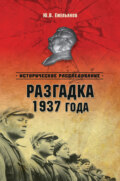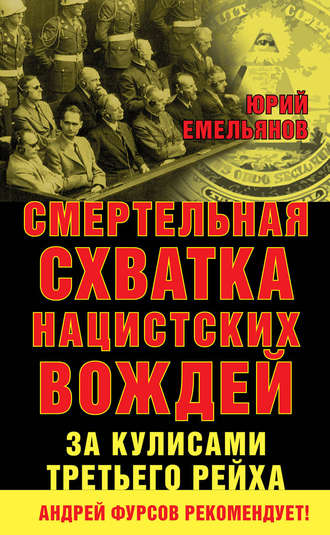
Ю. В. Емельянов
Смертельная схватка нацистских вождей. За кулисами Третьего рейха
«Внимание! Танки!»
Хотя представители потомственной военной касты чувствовали себя выше «неотесанных» нацистов, некоторые из них охотно вступали в национал-социалистическую партию (НСДАП) и поддерживали Гитлера. Это объяснялось, прежде всего, тем, что сразу же после прихода к власти Гитлер взял курс на милитаризацию Германии. Отказ от обременительных ограничений Версальского договора, гонка вооружений и другие шаги правительства Гитлера получали безоговорочную поддержку значительной части военных Германии. Военачальники были довольны расправой Гитлера с Рёмом и его штурмовиками 30 июня 1934 г., так как в них видели опасных конкурентов профессиональной армии.
Особо энергично поддерживали Гитлера сторонники маневренной войны. Еще до Первой мировой войны германские военные считали, что Германия сможет победить лишь нанесением быстрых последовательных ударов по своим противникам на западе и на востоке. Идею проведения «краткосрочных военных операций» пропагандировал тогда фельдмаршал Х. Г. Б. Мольтке. Танки и моторизованные войска открывали техническую возможность для таких действий.
Вскоре после прихода Гитлера к власти Гудериан в середине 1933 г. получил возможность продемонстрировать новому рейхсканцлеру действия подразделений мотомеханизированных войск во время учений в Куммерсдорфе. Гудериан вспоминал: «Гитлер… проявил большой интерес к вопросам моторизации армии и создания бронетанковых войск… Я показал Гитлеру мотоциклетный взвод, противотанковый взвод, взвод учебных танков Т-1, взвод легких бронемашин и взвод тяжелых бронемашин. Большое впечатление на Гитлера произвели быстрота и точность, проявленные нашими подразделениями во время их движения, и он воскликнул: «Вот это мне и нужно!» После этого у меня сложилось впечатление, что канцлер полностью согласился бы с моими планами организации нового вермахта, если бы мне удалось изложить ему мои взгляды. Однако в этом я встретился с существенными затруднениями, связанными с неповоротливостью наших военных органов и отрицательным отношением к моим взглядам со стороны руководящих лиц генерального штаба, мешавших мне связаться с генералом Бломбергом (он был министром обороны и главнокомандующим вооруженными силами Германии. – Прим. авт.)»
Несмотря на возражения со стороны начальника генерального штаба генерала Людвига Бека, весной 1934 г. было создано командование мотомеханизированных войск. Гудериан стал начальником штаба этих войск. Он выступал инициатором развития бронетанковых сил и настаивал на существенном усилении их роли в боевых действиях в будущей войне.
Полностью одобряя политику Гитлера по отношению к бронетанковым войскам, которые должны были стать ударной силой в будущей «молниеносной» военной кампании, Гудериан в то же время, как и многие военачальники, разделял беспокойство рискованными действиями фюрера, которые могли спровоцировать войну, к которой Германия еще не была готова. Гудериан писал о том, что «весной 1936 г. мы были поражены решением Гитлера оккупировать Рейнскую область».
Позже, беседуя с Гудерианом осенью 1939 года Гитлер, по словам генерала, «подробно изложил историю возникновения своего недоверия к генералам, начиная с момента формирования армии, когда Фрич (главнокомандующий сухопутными силами Германии до 1938 г. – Прим. авт.) и Бек создали для него ряд трудностей, противопоставив его требованию о немедленном создании 36 дивизий свое предложение ограничиться 21 дивизией. Перед оккупацией Рейнской области генералы тоже предостерегали его; они были даже готовы, увидав первые признаки недовольства на лице французов, отвести обратно введенные в Рейнскую область войска, если бы имперский министр иностранных дел не высказался против этой уступки. Затем его сильно разочаровал фельдмаршал фон Бломберг и ожесточил случай с Фричем».
Гитлер ни слова не сказал Гудериану о сопротивлении Бломберга, Фрича и других военачальников его плану военных авантюр, изложенному им 5 ноября 1937 г. перед узким кругом государственных и военных руководителей рейха. Тогда, выслушав Гитлера, главнокомандующий ВМС Германии адмирал Эрих Редер в беседе с Вернером фон Бломбергом и Вернером фон Фричем сказал, что Германия не готова к войне. Соглашаясь с ним, Фрич и Бломберг в то же время подчеркивали, что главное – это получить средства на вооружение.
Все же через четыре дня Фрич представил Гитлеру меморандум, в котором указал, что Германия не может рисковать и подставить себя под возможный удар Франции. Гитлер ответил Фричу, что такого риска не существует, что главное – наращивать военный потенциал, и что, вообще не дело генерала заниматься политическими вопросами. Однако и Фрич, и Бломберг ясно понимали, что реализация гитлеровского плана чревата для Германии новым грандиозным военным поражением.
Не стал Гитлер говорить Гудериану и о том, как грубо были скомпрометированы, а затем отправлены в отставку Бломберг и Фрич. В противовес этим и другим генералам Гитлер поддерживал тех военачальников, которые, как Гудериан, выступали за реализацию его планов молниеносных военных кампаний.
Зимой 1936–1937 гг. генерал-майор Гейнц Гудериан изложил свои мысли о первостепенном значении танков в современной войне в книге «Внимание! Танки!». Ее основные положения были повторены в статье, опубликованной в военном журнале 15 октября 1937 г.
Основной тезис Гудериана гласил: «Огонь и движение – основа танкового наступления». Гудериан подчеркивал: «В первую очередь нужно добиться того, чтобы войска передвигались более быстрыми, чем раньше темпами и были в состоянии, несмотря на огонь обороняющегося противника, продолжать движение, препятствуя тем самым созданию новых оборонительных рубежей и нанося удар в глубину обороны… Используя в наступлении танки, мы сможем продвигаться значительно быстрее, чем передвигались до сих пор… После успешного прорыва мы будем продолжать дальнейшее продвижение». Гудериан указал и на ряд условий, необходимых для успеха танкового наступления: «Сосредоточение сил на выгодном участке местности, наличие слабых мест в обороне противника, превосходство над ним в танках и др.».
Подчеркивая приоритет танков в современной войне, Гудериан писал: «При ведении наступления с участием танков решающая роль принадлежит последним, а не пехоте, потому что неуспех танков влечет за собой провал всего наступления и, наоборот, успех танков обеспечивает победу… Мы полагаем, что именно танки в состоянии наносить стремительные удары одновременно по различным участкам обороны противника на значительном по ширине фронте, что именно они играют решающую роль в достижении общего успеха наступления и что достигаемый ими успех будет иметь не только тактическое значение, какое имели прорывы танков во время Первой мировой войны».
Подчеркивая главную роль танков в будущей молниеносной войне, Гудериан писал: «Мы, танкисты, считаем свой род войск вполне созревшим и уверены, что наш успех в будущих сражениях наложит отпечаток на предстоящие события. Если наступление танков будет удачным, то все остальные рода войск должны будут приспособиться к тому, чтобы действовать в одинаковом с ними темпе. Поэтому мы и требуем, чтобы те рода войск, которые будут взаимодействовать с нами для развития нашего успеха, были также подвижными и были нам приданы еще в мирное врем, потому что решающее значение в будущих сражениях будет иметь не количество пехоты, а количество бронетанковых войск».
Гудериан получил возможность продемонстрировать значение бронетанковых войск во время военных маневров, устроенных осенью 1937 г. На них присутствовали Б. Муссолини с итальянской военной миссией, английский фельдмаршал С. Деверел и члены венгерской военной миссии. По словам Гудериана, «в последний день маневров специально для иностранных гостей было проведено крупное наступление всех танковых сил, участвовавших в маневрах под моим командованием. Впечатление было исключительно сильным, хотя мы располагали в то время лишь небольшими танками типа Т-1… Результаты маневров показали, что танковая дивизия вполне оправдала себя как боевая единица».
Первым шагом в испытании методов «молниеносной войны», в которых ведущая роль отводилась танкам, стал аншлюс. 11 марта 1938 г. Гитлер подписал директиву, в которой говорилось: «Если другие меры окажутся безуспешными, я намереваюсь вторгнуться в Австрию при помощи вооруженных сил для того, чтобы создать конституционные условия и предотвратить дальнейшие нападки на прогерманское население… Поведение войск должно быть таковым, чтобы создать впечатление, что мы не намереваемся вести войну против наших австрийских братьев. В наших интересах, чтобы вся операция была проведена без применения насилия, но в форме мирного вступления при приветствии со стороны населения. Поэтому следует избегать любой провокации. Если, однако, будет оказано сопротивление, то оно должно быть сломлено безжалостно силой оружия».
Хотя захват Австрии произошел без применения оружия, он был использован для демонстрации военной мощи Германии, особенно его танковых армий. По мнению У. Черчилля, эта демонстрация провалилась. Описывая немецкий поход на Австрию, У. Черчилль в своих воспоминаниях утверждал, что «большинство танков оказались не в состоянии продолжать движение. В моторизованных подразделениях тяжелой артиллерии имели место аварии. Дорогу от Линца до Вены загромоздили застрявшие тяжелые машины». Черчилль уверял, что Гитлер «обрушился на своих генералов с руганью, но те заявили, что не виноваты. Они напомнили фюреру, что он и слушать не хотел предостережения Фрича о риске для Германии идти на более крупный конфликт».
Гейнц Гудериан, участвовавший в походе на Австрию, опровергал высказывания Черчилля относительно «разноса», устроенного Гитлером генералам. Однако Гудериан признал, что «высшее командование было недостаточно подготовлено к проведению этого похода. Решение о нем исходило от одного Гитлера. Весь поход представлял собой сплошную импровизацию, что явилось для танковых дивизий, созданных лишь осенью 1935 г., рискованным мероприятием… Наиболее важным недостатком, выявившимся в процессе марша, оказалась неудовлетворительная постановка ремонта техники, особенно танков… Имели место серьезные затруднения в обеспечении горючим».
Недавняя расправа с Бломбергом и Фричем и неудачи танкового броска на Австрию усилила рост оппозиции среди немецких генералов, не желавших вести страну к сокрушительному военному поражению. По мере обострения международных кризисов 1938 года вокруг Чехословакии, последовавших за аншлюсом, среди военных созрел заговор против Гитлера, в котором на первых порах участвовали высшие руководители вооруженных сил Германии. Они были готовы свергнуть Гитлера, как только ситуация приблизится к развязыванию войны.
Заговорщики считали, что Германия будет обречена на поражение в случае начала войны. Кроме того, они учитывали, что значительная часть немецкого народа, поддерживая Гитлера, его идеологию и внутреннюю политику, не хотела войны. Широко распространенные в германском народе расистские установки, националистическая спесь и убежденность в том, что немцам должны принадлежать богатые земли планеты сочетались с горькими воспоминаниями об ужасах Первой мировой войны и ее последствиях.
В последние дни сентября к чехословацкой границе перебрасывались немецкие войска. Некоторые части проходили через Берлин. Американский корреспондент Уильям Ширер видел, что берлинцы с мрачными лицами наблюдали за проходившими войсками. Не было ничего похожего на тот энтузиазм, с которым провожали солдат в германской столице летом 1914 года.
Стремясь предотвратить войну из-за Судет, заговорщики установили контакт с западными державами. Исходя из того, что Англия решительно отвергнет требования Гитлера, заговорщики назначили военный переворот на 29 сентября 1938 г. Приказ о выступлении должен был отдать новый начальник генерального штаба генерал Франц Гальдер. Однако за день до этого Гальдер узнал, что премьер-министры Великобритании и Франции Чемберлен и Клемансо направляются в Мюнхен, чтобы договориться с Гитлером о разделе Чехословакии. Поэтому, сообщал потом Гальдер, «я взял обратно приказ о начале путча». Его поддержал и главнокомандующий сухопутными силами Германии фельдмаршал Вальтер фон Браухич.
Трусливая капитуляция Великобритании и Франции в Мюнхене 29–30 сентября 1938 года позволила Гитлеру получить всё, что он требовал. Военные отказались от переворота. Последующие бескровные захваты Чехии и Мемельской области в марте 1939 года убедили многих военных в Германии в том, что программа захватов Гитлера, изложенная им 5 ноября 1937 г., успешно выполнялась под угрозой оружия, но без применения его. Более того, после этих захватов, которые усилили военно-стратегическое положение Германии и мощь ее военной промышленности за счет чешской, военачальники поддержали подготовку Гитлера к нападению на Польшу. Правда, многие из них считали, что и в этом случае Гитлер захватит эту страну, не прибегнув к оружию, а получив ее в виде уступки от стран Запада. В то же время военные заговорщики не исключали возможности выступления против Гитлера в случае неудач в польской кампании.
Разгром Польши и обострение отношений Гитлера с военными
Польская кампания, начавшаяся 1 сентября, впервые показала методы военных действий, на которые затем полагалась германская армия в ходе Второй мировой войны. Американский историк Луи де Йонг писал: «На большинстве участков фронта польское сопротивление непосредственно у границ было быстро подавлено; танковые соединения устремлялись в прорыв далеко в глубь страны. Польская авиация оказалась уничтоженной к исходу первого дня боев; немцы завоевали господство в воздухе… Превосходство немцев в вооружении и искусстве склоняло чашу весов в их пользу».
Активный участник польской кампании Гудериан испытывал полное удовлетворение тем, как реализовывались его идеи танковой войны. Он писал: «Польский поход явился боевым крещением для моих танковых соединений. Я пришел к убеждению, что они полностью себя оправдали, а затраченные на их создание усилия окупились… Несомненно, этот род войск решающим образом способствовал тому, что кампания закончилась в такое короткое время и с такими незначительными потерями».
Гудериан и ряд других генералов вермахта получили высокие награды от Гитлера. Однако не исключено, что Гитлер что-то знал об оппозиционных настроениях в армии. Об этом свидетельствовало содержание политических лекций, с которыми выступили перед высшими военачальниками и офицерами Германии в ноябре 1939 г. партийные руководители, в том числе Геббельс, Геринг и Гитлер. По словам Гудериана, «в лекциях названных лиц повторялась одна и так же мысль: «Генералы военно-воздушных сил, действующие под целеустремленным руководством партайгеноссе Геринга – абсолютно надежные люди в политическом отношении; также и адмиралы надежно воспитываются в духе указаний Гитлера; однако к генералам сухопутных войск у партии нет полного доверия».
Заговорщики были напуганы этими речами. Гудериан же и другие генералы, не участвовавшие в заговоре, восприняли их с негодованием. Гудериан писал: «После успехов в только что закончившейся польской кампании этот тяжелый упрек нам был непонятен. По возвращении в Кобленц я посетил начальника штаба группы армий, хорошо знакомого мне генерала Манштейна, чтобы поговорить с ним о мерах, которые надлежит принять. Манштейн разделял мое мнение, что генералитет не может мириться с упомянутыми высказываниями. Он беседовал уже со своим командующим, но тот не был склонен что-либо предпринимать. Он посоветовал мне еще раз поговорить с Рундштедтом, что я и сделал немедленно. Генерал-полковник фон Рундштедт был уже информирован обо всем; он согласился лишь посетить главнокомандующего сухопутными силами и сообщить ему о сложившихся среди нас мнениях. Я возразил ему, сказав, что упреки в первую очередь направлены по адресу главнокомандующего сухопутными силами и что он лично слышал их; дело состоит как раз в том, чтобы пойти к Гитлеру и рассеять эти необоснованные подозрения. Генерал фон Рундштедт не проявил готовности предпринять дальнейшие шаги».
Тогда Гудериан обратился к генерал-полковнику Вальтеру фон Рейхенау. По словам Гудериана, его «преданность Гитлеру и партии была всем известна». Однако, к удивлению Гудериана, Рейхенау заявил о наличии у него с Гитлером острых разногласий. По этой причине Рейхенау отказался идти к Гитлеру, чтобы выразить протест военачальников.
Гудериан решился сам идти к Гитлеру. По его словам, он заявил Гитлеру: «Я пришел сегодня к вам, чтобы выразить протест против высказываний, которые мы восприняли как несправедливые и оскорбительные. Если вы питаете недоверие к отдельным генералам… тогда вы должны отстранить их. Предстоящая война будет продолжаться долго. Мы не можем терпеть такого раскола в верховном командовании. Необходимо восстановить доверие, пока война не достигла критической стадии, как это имело место во время Первой мировой войны в 1916 г., пока Гинденбург и Людендорф не возглавили верховное командование. Однако такой шаг был сделан слишком поздно. Наше верховное командование должно остерегаться такого положения, когда необходимые решительные меры опять будут приняты слишком поздно».
Внимательно выслушав 20-минутную речь генерала, Гитлер ответил, что его недовольство сухопутными войсками вызвано, прежде всего, их главнокомандующим Браухичем. Гудериан предложил назначить вместо него Рейхенау. Но Гитлер отверг эту кандидатуру. Других кандидатов, предложенных Гудерианом, Гитлер также отверг.
Затем, по словам Гудериана, Гитлер обрушился с критикой на руководителей армии. Он сказал, что «нынешний главнокомандующий внес ему совершенно неприемлемые предложения по вопросам вооружения. Ярким примером этого являются его совершенно неудовлетворительное предложение о расширении производства легких полевых гаубиц. Его план содержал смехотворно малые цифры. Что же касается совершения предстоящего похода на Запад, то его, Гитлера, мнение тоже расходится с мнением главнокомандующего».
Блицкриг в Западной Европе
Осенью 1939 года военные, по словам Г. Гудериана, «надеялись на то, что быстрая победа в Польше окажет определенное политическое воздействие и западные державы удастся склонить к разумному миру». В противном случае, Германия могла быть разбита в результате англо-французского наступления. После войны генерал-лейтенант Б. Циммерман писал: «Если бы французы, имевшие тогда значительное превосходство в силах, перешли в наступление, то весьма возможно, что им удалось бы прорвать Западный вал и даже продвинуться в глубь Германии. Когда Германия начала войну с Польшей, Западный вал… был еще не готов, и работы по его созданию находились в самом разгаре».
Позже генерал Йодль заявил, что «до 1939 года мы были в состоянии разбить Польшу, но мы никогда, ни в 1938 году, ни в 1939 году, не были в состоянии выдержать концентрированный удар всех этих стран (Англии, Франции и Польши); и если мы еще в 1939 году не потерпели поражения, то это только потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными».
На Западном фронте велась «странная война», по поводу которой И. В. Сталин сказал: «Воевать-то они воюют, но война какая-то слабая: то ли воюют, то ли в карты играют». Генерал-лейтенант Б. Циммерман писал: «В критические дни осени 1939 года войска, оборонявшие эти укрепленные линии, ограничивались только тем, что изредка обстреливали друг друга и вели наблюдение». Как и прежде, поведение западных держав позволяли Гитлеру готовиться к реализации своих авантюристических планов.
В то же время страх перед началом наступления западных союзников вновь активизировал усилия антигитлеровских заговорщиков среди военных. Один из участников заговора Ульрих фон Хассель писал в своем дневнике: «Приблизительно 4 ноября 1939 г. мне сказали, что все подготовлено для покушения на Гитлера… Вдруг утром 6 ноября я узнал, что все отменено. 5 ноября генерал, в чьих руках были все нити заговора, должен был делать доклад Гитлеру по текущим вопросам. В конце доклада Гитлер неожиданно спросил его, что он еще намечает. Ничего не подозревавший генерал назвал некоторые дополнительные технические детали. После этого Гитлер воскликнул: «Нет, я не об этом спрашиваю, я догадываюсь, что вы что-то замышляете». Генерал с трудом сохранил самообладание, сделал вид, что он удивлен и ничего не знает. От Гитлера он прибежал в панике и заявил, что заговор кем-то предан. В результате от этого плана отказались. Через несколько дней стало очевидным, что никакого предательства не было, и Гитлер ничего о заговоре не знал. Он просто брал на испуг».
30 декабря 1939 г. руководители заговора Карл Гёрдлер, Йозеф Бек, Иоханнес Попитц разработали новый план переворота, который предусматривал ввод войск в Берлин и смещение Браухича с поста главнокомандующего вооруженными силами. Некий врач должен был объявить, что Гитлер не в состоянии управлять страной. После этого Гитлер должен быть посажен под стражу.
Заговорщики вступили в контакт с представителями западных держав. В ходе переговоров в Швейцарии в конце февраля 1940 г. один из руководителей заговора У. Хассель передал английскому посреднику Л. Брайансу меморандум, в котором излагались цели и принципы антигитлеровских заговорщиков. В меморандуме подчеркивалось их стремление не допустить «большевизации» Европы. В то же время заговорщики исходили из того, что Австрия и Судеты останутся в составе Германии, а восточная граница Германии будет установлена такой, какая она была в 1914 г. Таким образом, заговорщики были намерены сохранить все захваты Гитлера. В то же время они рассчитывали, что после переворота военное правительство будет признано Великобританией.
Однако отказ западных держав активно поддержать генералов, а также нежелание наиболее влиятельных из последних нанести удар по армии во время войны, заставили руководителей заговора отложить осуществление переворота. Гальдер же, являвшийся одним ведущих участников заговора, отказывался приступить к осуществлению переворота, так как в это время с энтузиазмом разрабатывал планы военной кампании на западе. В письме к Гёрдлеру Гальдер сообщал, что пришел к выводу о необходимости вести войну до победного конца.
Методы молниеносной войны, разработанные при участии германского генштаба, были применены Гитлером при захвате Дании и Норвегии. Де Йонг писал: «В датской столице многочисленные правительственные учреждения оказались захваченными немцами еще утром 9 апреля. Жившие в Копенгагене немцы с большим рвением и энтузиазмом показывали солдатам дорогу и служили переводчиками. Радио, почта, телеграф, телефон, железные дороги сразу же оказались под немецким контролем. Немцы знали точно, куда им следует направляться. Об импровизации не могло быть и речи. Сказались целые месяцы тщательной подготовки». Захват Дании, главным образом с помощью военно-морского десанта, был осуществлен так неожиданно, что датские солдаты оказали лишь незначительное сопротивление. В ходе недолгих столкновений 13 солдат датского королевства было убито и 23 ранено. На этом вооруженное сопротивление вермахту в Дании завершилось.
В ночь с 8 на 9 апреля началось вторжение в Норвегию. Описывая захват Норвегии, немецкий полковник Эгельгаф писал: «Войскам первого эшелона удалось захватить различной величины плацдармы и силами сколоченных на месте боевых групп продвинуться в направлении тех районов, где шло развертывание норвежской армии, а также к тем разведанным заранее учебным центрам, где располагались отдельные роты норвежцев… Боевым группам удалось полностью сорвать мобилизацию и развертывание норвежской армии и захватить в свои руки почти всю боевую технику и вооружение норвежцев».
Неожиданное вторжение немецких войск вызвало панику в стране. Голландская газета «Ньюве роттердамше курант» писала 14 апреля: «У входов в метро дрались обезумевшие люди, стараясь поскорее укрыться в подземных туннелях; некоторые пытались спрятаться в подъездах домов, кое-кто бежал к дворцовому парку. Часть людей бежала, или пыталась убежать из города; люди катили перед собой детские коляски, забирались на грузовики, брали приступом железнодорожные станции, где весь свободный подвижной состав заполнялся до отказа. Поезда отправлялись в сельские районы».
Де Йонг констатировал: «Все были вне себя от страха, уныния и сомнений. В то время как часть населения Осло в панике убегала с насиженных мест, немцы, хладнокровные и спокойные, вступали в город: первые отряды немецких войск двигались с аэродромов к правительственным зданиям. Примерно к полудню они захватили намеченные объекты… Никто не знал, что необходимо предпринять. Как могло случиться, что немецкие войска среди бела дня, почти в 400 милях от ближайшего немецкого порта, смогли беспрепятственно вступить в город и спокойно расположиться во всех правительственных зданиях? Оставшееся в городе население было совершенно ошеломлено… На следующий день… выяснилось, что немцы проникли не только в Осло, но и во все другие крупные города норвежского побережья: в южной его части были заняты Кристиансунн, Эгерсунн, Ставангер и Берген, в центральной части – Тронхейм, на крайнем севере – Нарвик… За всю историю не было ни одного примера такого широкого и успешного использования внезапности».
Но если для населения Дании и Норвегии вторжение немецких войск было неожиданным, то такое же нападение должны были каждый день ожидать и англо-французские войска на Западном фронте весной 1940 г. Ведь с начала сентября 1939 г. Франция и Великобритания находились в состоянии войны, англо-французские войска стояли на германской границе, а порой между противоборствующими армиями шла перестрелка. Было также известно, что Германия нападет на Францию через Бельгию, Нидерланды и Люксембург. И все же наступление немецких войск, начавшееся 10 мая 1940 года, застало западных союзников врасплох.
Еще до начала военных действий Гудериан был уверен в успехе вермахта на Западном фронте. В своих воспоминаниях он не пытался преуменьшить свой вклад в эту победу. Генерал писал: «Из теоретического анализа, сделанного человеком, не скованным никакими традициями, был сделан вывод о конструкции и использовании танков, а также об организации и использовании бронетанковых соединений, вывод, который вышел за рамки теорий, господствовавших за границей. В упорных спорах, длившихся годами, мне удалось претворить в жизнь мои убеждения раньше, чем другие армии подошли к решению аналогичных задач. Преимущество в проектируемой организации и в боевом использовании танков было первым фактором, на котором основывалась моя вера в успех. Даже в 1940 г. я почти один в германской армии верил в это».
Гудериан подчеркивал, что «Франция обладала самой сильной сухопутной армией и самыми крупными бронетанковыми силами в Западной Европе». У Франции было больше танков, чем у Германии (4800 против 2200), а «французские танки превосходили немецкие броневой защитой и калибром пушек». Правда, он отмечал, что французские танки уступали немецким «в совершенстве приборов управления и скорости». Однако, как писал Гудериан, военное руководство Франции придерживалось устаревших методов ведения военных действий, характерных для Первой мировой войны: «Несмотря на наличие этого самого сильного подвижного боевого оружия, Франция создала «линию Мажино» – самый прочный укрепленный рубеж в мире. Почему же деньги, вложенные в укрепления, не были использованы для модернизации и усиления подвижных средств? Старания де Голля и Даладье в этом направлении были оставлены без внимания. Отсюда следовал вывод, что верховное командование французской армии не признавало или не хотело признавать значения танков в маневренной войне… Немецкое командование могло с уверенностью считать, что оборона Франции с учетом использования укреплений планируется осторожно и схематично по доктрине, основанной на выводах из Первой мировой войны, т. е. на опыте позиционной войны, – высокой оценке огня и недооценке маневра. Известные нам принципы французской стратегии и тактики 1940 г., противоположные моему методу ведения боевых действий, явились вторым фактором, обосновывавшим мою веру в победу». Гудериан пришел к выводу о том, что в верхах Франции «надеялись избежать серьезной военной кампании. Пассивное… поведение французов во время зимы 1939/40 г. приводило к выводу, что желание воевать у Франции было невелико».
Генерал был убежден в том, что «целеустремленный внезапный удар крупными танковыми силами через Седан на Амьен с выходом к Атлантическому океану встретит лишь сильно растянутый фланг противника, находящегося в готовности к выдвижению в Бельгию. Для отражения такого удара противник располагает незначительными резервами; такой удар сулил большие надежды на успех, который при немедленном его использовании мог бы привести к окружению всех выдвинувшихся в Бельгию главных сил противника».
В своих мемуарах Уинстон Черчилль писал, что после воздушных налетов на аэропорты, центры связи, штабы, 10 мая 1940 г. «немецкие вооруженные силы ринулись на Францию через границы Бельгии, Голландии и Люксембурга. Почти в каждом случае им удалось добиться полной неожиданности. Из кромешной тьмы вдруг появилось бесчисленное количество хорошо вооруженных, энергичных штурмовых частей, часто в сопровождении легкой артиллерии и задолго до наступления дня сто пятьдесят миль фронта превратились в полосу огня… За один день вся внешняя линия обороны Голландии была захвачена… Роттердам превратился в пылающие руины. Гааге, Амстердаму и Утрехту грозила та же участь».
Генерал-лейтенант Б. Циммерман писал: «Операция повсюду развивалась очень быстро. Соединения группы армий фон Бока стремительно продвигались по Голландии, а армия генерала фон Рейхенау форсировала канал Альберта и начала наступать на Брюссель… Тем временем танковые и пехотные дивизии немцев, обгоняя друг друга, быстро выходили к Маасу. Уже в первый день наступления немцам удалось сломить довольно слабое сопротивление противника и захватить плацдармы на западном берегу Мааса. В результате этого путь для танковой группы фон Клейста был расчищен. В то время как самые боеспособные соединения левого крыла противника были втянуты в бой с группой фон Бока и шли навстречу своей гибели, немецкие танки безостановочно продвигались к морю в направлении Булони и Абвиля. Для северной группировки англо-французов создалась угроза быть отрезанной с юга. Выйдя к Ла-Маншу, немецкие танковые соединения и наступавшая в том же направлении армия генерала фон Клюге (4-я армия) повернули на север и совместно с войсками группы армий фон Бока, наступавшими с северо-востока и востока, обрушились на вражеские армии. Войска противника во Фландрии и Артуа оказались в окружении».