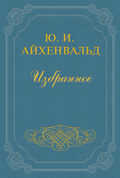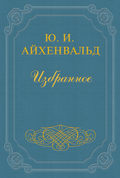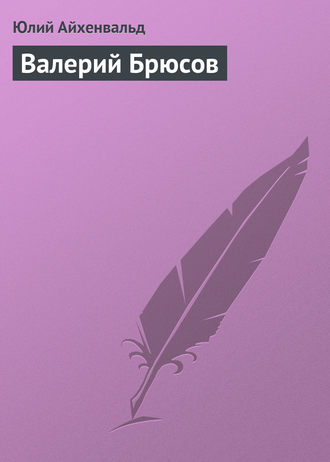
Юлий Исаевич Айхенвальд
Валерий Брюсов
Прозаическая сознательность Брюсова, недреманное око его умственности проявляются и в общей печати интеллектуализма, лежащей на его стихах, и в отдельных глубоко-характерных моментах его стихотворений. Например, он смотрит на радугу и сейчас же сам разбивает ее иллюзию и восклицает: «знаю, – ты мечта моя». Он слишком знает. Красиво созерцает он облака, «дружную флотилию сказочных пловцов»; но его не удовлетворяет их бессознательность, спокойные «кили» их «кораблей», и он сетует:
Но и нас ведь должен с палубы
Видеть кто-нибудь,
Чье желанье сознавало бы
Этот вольный путь.
Тогда бы наш поэт успокоился… Он делает очень поверхностный обзор столетиям, которые кажутся ему во тьме фонариками «на прочной нити времени, протянутой в уме»: как при арифметических действиях, он многое держит в уме, и лишь там, абстрактно, протянуты для него несуществующие нити, словно он хочет, он спешит сказать, что разделяет кантовское понимание времени; но все это как чуждо поэзии! Его знание, его понимание, его рассудочность отравляют его художество. Так как интеллект преобладает у него над интуицией, то мы и слышим часто подобные заявления: «эти яркие одежды, понял, понял – для меня»! «понял, мы – в раю». Он понял, наконец; он не почувствовал, он понял рай. Удручающей прозой звучит понятливость нашего поэта. Безвкусно выделяя с ритмической настойчивостью деепричастие, он трижды повторяет в одном стихе: зная, зная, зная, и этот упорный крик о знании так символичен для его страниц, где гораздо больше ars poetica, чем поэзии.
Интеллектуализм проявляется и в том, что в стихотворениях Брюсова большую и нежелательную роль играют знаки препинания, писанная логика. Все эти бесчисленные тире, запятыя, скобки и, особенно, кавычки, холодное клеймо чужого, печать заемности, восполняют у него то, что должна бы давать мало присущая его книгам непосредственная звучность и бесспорная прозрачность стиха. При помощи знаков препинания он кое-как сводит концы с концами, – и вот он прав, и вот он ставит уже последний знак, успокоительную точку. И вестник богов говорит Энею:
И подвиг твой, в веках, высок, —
несмотря на всю какофонию от обильного звука «в» и несмотря на то, что, по воле прозаического поэта, вещающий бог не столько предрекает, сколько делает какую-то историческую вставку и справку и, запинаясь, огораживает ее запятыми: «в веках». Или с глубоким внутренним сопротивлением, даже с содроганием воспринимаются такие строки, такая профанация поэзии:
Ты золотую чашу «право»,
Отцовский дар, бросаешь в мир.
Что может быть более противохудожественного, более варварского, чем эта золотая чаша, на которой в кавычках значится ее наименование «право»? Какой поэт, кроме ритора, кроме сухого аллегориста, решится назвать право чашей?
Рок прозы тяготеет над душою Брюсова. Это, между прочим, обнаруживается и в том, что он нередко злоупотребляет не столько сложными, сколько склеенными словами («скорбно-скромный», «кругло-алый», «длительно-сжигающий»), и они стонут, они ропщут, что посредством маленького тире их, чуждые и далекие друг другу, насильственно соединили.
И в конце-концов, прибегая к знакам и кавычкам, и связкам, на все налагая отпечаток ума, а не вдохновения, профессор поэзии, Брюсов, этот словесник, не обладает чувством слова. Он в стихах своих говорит на дурном русском языке. Не только искажает он дух его этим от Бальмонта полученным достоянием, отвлеченными словами на «ость», всеми этими «белостями, унылостями, змеиностями, обманностями», но и вообще выражается неточно, странно, некрасиво. В книге А. Шемшурина «Стихи В. Брюсова и русский язык» (даже принимая во внимание ее придирчивость) собраны примеры, несомненно изобличающие неправильный стиль Брюсова, – и их число можно было бы еще увеличить. Когда же он сознательно вводит стилистические новшества, то они вызывают лишь недоумение, и холодно встречаешь все эти «мгновенные миги», «бездонные бездны», «немыслимое небо», «друг друга жаждя», «все каменней ступени».