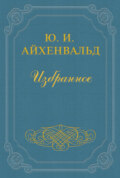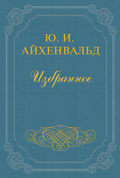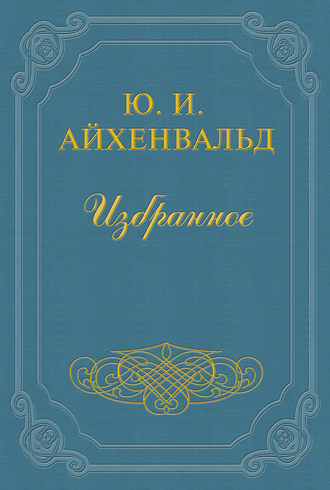
Юлий Исаевич Айхенвальд
Минский
Итак, между черными днями и белыми ночами в продолжение всей своей литературной деятельности колеблется Минский, и этим обусловлены ее зигзаги, ее переходы от тем гражданской скорби к искусству модернизма – и обратно. После общественности он в девяностых годах один из первых поднял знамя новой поэзии:
Я цепи старые свергаю,
Молитвы новые пою, —
а в годину нашей первой революции выступил бардом социал-демократии и в плохой стих уложил девиз рабочих: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Эти метания в значительной степени вызваны тем, что уже в самом истоке своей работы Минский не знал, за кем ему идти: за эпохой или за самим собою. Вообще, ему помешали.
Этого, как мы уже упомянули, нельзя было бы сделать, если бы он сам был сильной художественной личностью. Но он не таков. Минский не совсем поэт. Над фантазией и чувством, над живою непосредственностью у него преобладает мысль, и к тому же мысль диалектическая, формальная, талмудическая; он любит играть антитезами, он идеи и стихи сопоставляет хитро и вычурно – он порою не столько мудр, сколько мудрит. Минский очень щедрую и, главное, добровольную дань платит риторике и аллегоризму; не претит ему банальное, обесцвеченное, и невыносимы слишком частые у него и слишком неправдоподобные явления всяких духов, богинь и муз, которые держат ему длинные речи. Внешняя и внутренняя проза обычна для него, много у него стихов незаконных, иногда он грешит против русского языка, против его духа и даже грамматики – и все это отнимает у его слова выразительность, делает его небрежным и кое-где вульгарным, изобличает в авторе не художника, а только интеллигента. У него есть восточная цветистость, но побледневшая от ума (или умничанья).