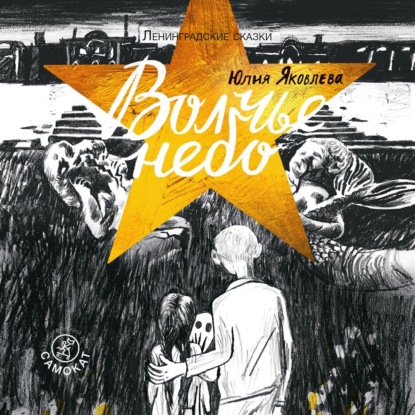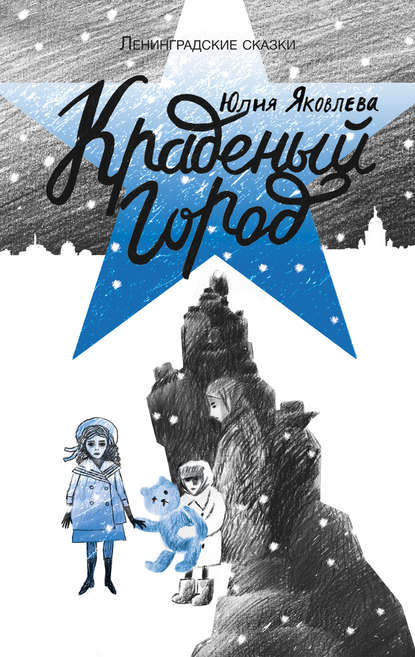
Полная версия:
Юлия Яковлева Краденый город
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Юлия Яковлева
Краденый город
1941 год
Для младшего и среднего школьного возраста
Любое использование текста и иллюстраций допускается только с письменного согласия Издательского дома «Самокат».
© Ю. Яковлева, текст, 2017
© ООО «Издательский дом “Самокат”», 2017

Информация от издательства

Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой квартире. Но зима надвигается, и живот почему-то все время болит, новые соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня потеряла хлебные карточки… Выстывший пустеющий город словно охотится на тех, кто еще жив, и оживают те, кого не назовешь живым.
Пытаясь спастись, дети попадают в Туонелу – мир, где время остановилось и действуют иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому Бобке придется сделать выбор – иначе их настигнет серый человек в скрипучей телеге.
Перед вами – вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». Первая, «Дети ворона», была названа главным событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна» и попала в международный список «Белые вороны» – среди лучших 200 книг из 60 стран.
Глава 1
Ах, что это был за магазин! Настоящий дворец.
Вообще-то в этом магазине продавались не только игрушки. Но, глядя на витрины отдела игрушек, почему бы и не помечтать о том, что все шесть этажей универмага со скучным названием ДЛТ набиты сокровищами под самую крышу?
На крыше обычно сидели серые голуби. Они были чуть светлее самой крыши и чуть темнее неба. Ведь Ленинград – северный город, в нем много чего серое, особенно в плохую погоду, которая здесь и вовсе обычное дело, а с нею вместе – серые кошки, серые лужи, серые тротуары, серые пальто, серые дома. Даже в июне.
Но только не в витрине игрушек. Она сияла всегда. По вечерам в ней горели электрические лампы. От витрины на тротуар ложились прямоугольники желтого света. И всякий раз, когда человек проходил сквозь такой прямоугольник, его лицо казалось красивее, веселее и моложе. Речь, конечно, о взрослых людях. Потому что дети никак не могли вот так просто пройти мимо – ни вечером, ни днем, ни зимой, ни сейчас, в июне, на каникулах. Они непременно прилипали носами к стеклу. Или оборачивались и замедляли ход, пока мама, или папа, или бабушка, или няня не дернет за руку.
И Бобка, конечно, тоже сразу прилип. За спиной у него был маленький мешочек, на горловине с тесемкой виднелась часть вышитой надписи «Бор…» – остальное терялось в складках.
Шурка решил быть старшим братом до конца: он выпустил Бобкину ладошку, а сам притворился, что уж ему-то нисколько не интересно. Но исподтишка и сам поглядывал на густонаселенную витрину.
Там было на что посмотреть. Настоящая маленькая страна – с бархатистыми зелеными холмами из велюрового картона, между которыми ниточкой блестела железная дорога. Игрушечный поезд иногда запускали, и тогда он с радостью разминал колеса, а вагончики тренькали вслед паровозу – мимо кукол, барабанов, домиков, солдатиков, медных дудок, танков, самолетиков.
Бобка жадно убедился: все игрушки на своих местах. «Их не продают, – еще зимой объяснил старший брат. – Это для красоты».
Красота и правда была неимоверная. Бобка приставил ладони по сторонам лица, чтобы отражение не мешало.
Завалившись на бок, лежала цветная юла. Бобка ее давно знал. Скучная особа, все мысли и мнения которой бесконечно кружили по кругу.
То тут, то там выпирали бока новеньких мячей. Особенно хорош был футбольный. Сами мячи были препустыми существами. А как иначе? – кроме воздуха их должны были заполнить мальчишеские мечты – например, мечта стать знаменитым футболистом. Кукле-негритянке, сверкавшей черной пластмассой, мячи, видно, тоже нравились. Баскетбольный наверняка казался ей апельсином, мяч для регби – дыней, а футбольный напоминал окраской тропическую макаку.
Были здесь и самолетик, и заводной пароход, и его родственница заводная курочка. Если до упора закрутить ключик, торчавший у нее из спины, она прыгала и делала вид, что клюет.
Был и медицинский рожок, который норовил всех поучать, – даром что сам не настоящий, а игрушечный.
Большой барабан с цветными боками, как обычно, дремал.
А над ними всеми висели гигантские качели, прицепленные, надо полагать, прямо к небу.
Оловянные солдатики с красным знаменем «СССР» и пограничник с собакой стояли у самого стекла. Видно, стерегли границу от нарушителей. Ведь за стеклом бывало холодно, сыпали то снег, то дождь. А здесь всегда была зеленая трава.
Девчачьим игрушкам Бобка тоже уделил внимание – чтобы никого не обидеть. Нарядные куклы сидели в креслицах и прямо на бархатистой, пахнущей клеем траве, вокруг столика с игрушечным фарфоровым сервизом. Плакат «Юному рыболову», прикнопленный к стенке напротив, не нравился куклам; изображенные на нем рыбы – карась, корюшка, минога, сом, камбала, щука и многие другие – были так похожи на настоящих, что казалось, от плаката пахнет рекой и мальчишками. «Фи!» – витало над столиком. Фарфоровые чашечки всегда были пусты. За это другие здешние жильцы считали кукол вруньями и кривляками. Но Бобка подумал, что и куклу он мог бы научить играть в хорошие, толковые игры: стоять на карауле, красться, брать в плен.
– Бобка, ну пойдем уже, – все-таки дернул его за руку Шурка.
Он боялся, что Бобка опять начнет просить. Хоть что-нибудь. Хоть самого маленького солдатика. Не хотелось повторять вечное тети-Верино «денег нет» или врать, что с витрины не продается.
– Идем, – повторил Шурка. – А то детский сад без тебя уедет. Ты же хочешь на дачу?
Бобка серьезно посмотрел на брата. Но ничего не попросил.
Глава 2
Трамвай зазвенел, тронулся. Шурка подождал, пока мимо, трясясь, пройдет одна дверь с черной гроздью пассажиров (все как один насупленные), потом красный трамвайный бок, потом другая дверь со своей гроздью (из этой топорщились корзины – с ними в первую дверь не пускали). В окнах трамвая отразились и проехали дома, беленькие облачка. Шурка метнулся вслед трамваю, крепко ухватился за черную, солнцем нагретую колбасу, запрыгнул и повис, уперев ноги в металлический выступ. Радостно повернул лицо к солнцу.
И в тот же миг ухо рвануло в сторону. В голову молнией ударила боль.
От неожиданности Шурка разжал руки. Но на рельсы не упал. Постовой милиционер ловко перехватил его за шиворот. И только потом испустил переливчатый торжествующий свист: есть!
Все родители и учителя Ленинграда строго запрещали детям кататься на задней сцепке трамваев. Пугали историями про мальчика (непременно мальчика), которому отрезало ноги. Пугали и малышей, только вместо мальчика был зайчик, и ему трамваем отрезало не ноги, а ножки, да и те потом пришил доктор Айболит.
Как кататься на колбасе, знали все дети Ленинграда. И все постовые милиционеры знали, как их оттуда сдергивать. Рывок, зажим, перехват.
Шуркино ухо пылало. Пылала на солнце и алая звезда на белом шлеме милиционера.
– Пустите, – дернулся Шурка.
Но рука, тащившая Шурку, ухватилась за воротник так крепко, что казалось, это навсегда: так он и школу окончит, и институт, и на работу будет ходить, и женится – и все с милиционером.
Прохожие косились. Шурка напрасно пытался придать своей позе хоть какое-то достоинство.
– Вот вам каникулы. Ешьте с кашей. Безобразия одни, – продребезжал на ходу какой-то солидный дядечка. Он был в черном плаще, будто не согласен был с летом, детьми, солнцем. Такой непременно сыщется на каждой ленинградской улице.
– Вот-вот, товарищ, – с опозданием поддержал милиционер, волоча Шурку.
– Пустите!
– В отделении пущу.
При слове «отделение» внутри у Шурки все съежилось.
– Детей не арестовывают.
– Очень даже, – оживился милиционер, другой рукой дергая себя за рыжеватые усы. – И штраф выписывают. За нарушение правил дорожного движения. И мамаше сообщают по телефону.
Шурка представил, как снимает трубку тетя Вера, и ему стало тошно.
– Гражданин прав: дети должны быть заняты делом. Либо в школе, либо в лагере. А то что? Хулиганство одно. Твоя мамаша что, не знает?
Тетя Вера знала прекрасно. Она еще в апреле выслушала все про летний лагерь и даже покивала учительнице: да-да. А потом сказала: денег нет. Их хватило лишь на то, чтобы отправить на дачу Бобку. На дачу уехал весь детский сад. И теперь Бобка там небось в ус не дул среди песка и сосен, у самого моря.
– Я вот твоей матери по телефону все объясню. Проведу воспитательную работу.
Хорошо бы к телефону позвали дядю Яшу, уныло соображал Шурка.
– Уплатит штраф – тогда пускай и забирает.
Шурка представил, как тетя Вера смотрит милиционеру в глаза и говорит на это: денег нет. И что тогда?!
– Тюрьма по тебе плачет, – вещал милиционер. От солнца его белая каска казалась гипсовой. Он попробовал почесать под ней потный лоб, не сумел и рассердился: – Был советский школьник – стал преступник.
Стакан холодной воды наверняка остудил бы его взгляды на жизнь. Но тележки с водой, как назло, не было видно.
Шурка навострил уши: где-то в июньском воздухе словно зарождался гул. Но откуда он? Казалось, отовсюду сразу.
– А ну не вертись! – встряхнул его за шиворот милиционер.
Гул набух, набрал силу и завыл из репродукторов. Милиционер запнулся. Прохожие забегали во всех направлениях сразу. И воющий голос из репродукторов сумел наконец выговорить человеческие слова:
– Граждане! Тревога! Граждане! Тревога!
Голос не внушал тревоги. О том, что в районе пройдут учения, в газетах и по радио всегда предупреждали заранее. При звуках сирены полагалось оставить все дела и спуститься в подвал. Пока не перестанет выть.
– Японский городовой! – немного загадочно сказал милиционер. – Совсем забыл.
И не только он, похоже. Сердясь и бранясь из-за того, что сирена прервала их дела, прохожие спешили нырнуть в ближайшую парадную и там пересидеть учебную тревогу. Машины и телеги быстро причаливали к обочинам и там замирали. Сирена выла, подгоняя всеобщий переполох. Проспект быстро пустел.
С улицы 3 июля вырулил грузовик с красным крестом. Он ехал как ему хотелось, а не как надо по правилам.
Такого постовой стерпеть не мог. Ткнул свисток в рот, надул щеки, испустил сердитую трель. Тут-то его и цапнули – за оба рукава сразу.
– Товарищ пострадавший, пройдемте к санитарной машине! И сыночка берите, – заговорили обе девушки разом, стараясь держаться серьезно.
– Идем, мальчик! – сказала Шурке одна, с круглыми смешливыми щеками. – И тебе сделаем перевязку.
– Зачем?
– Ты условно раненый, – объяснили ему.
Прыская, но удерживая смех, девушки повлекли негодующего милиционера к мостовой – там уже лежали носилки. По всем правилам первой помощи добычу предстояло вложить в пасть санитарному грузовику.
Милиционер крутил головой в каске.
– Гражданки, бросьте шутки! Учения учениями, а я на посту. Вы за это ответите!
– Вы бы лучше сыну пример показали, – урезонивала его девушка в повязке с красным крестом.
– А что случилось? – спросил Шурка.
Девушки переглянулись.
– А диверсантов с парашютом сбросили. И они устроили, э-э-э… – девушка с повязкой запнулась.
– Диверсию, – подсказала смешливая.
– Мальчик! Спишь ты там, что ли? – прикрикнула та, что построже. – Полезай в машину вместе с папой.
Шурка не заставил себя просить дважды. Повернулся и дал деру.
Постовой, конечно, круглый дурак, сердито думал Шурка, но он прав: скучно. Все разъехались. Казалось, он один торчит в городе. Шурка уже бы и в школу пошел. И это в чудесный июньский день!
Озабоченная толпа втекала под круглую арку с надписью «Добро пожаловать!». Женщины с сумками и корзинками, мужчины в сапогах.
На рынок билета не требовалось. А интересного было почти как в зоопарке. Живые розовенькие поросята. Разноцветные куры. Петухи в колючих шпорах, всегда в отдельной клетке, – благородные и воинственные узники. Козы с вертикальными зрачками и твердыми рожками. Лошади с длинными замшевыми губами, которыми они мягко и мокро ощупывали ладонь, а потом удивленно смотрели терпеливыми карими глазами: как, ничего? Ресницы у лошадей были поразительные – длинные и загибающиеся кверху. А еще рыбки! Чижи! Канарейки! Щенки!
«Добро пожаловать!» – приглашала арка. И Шурка пожаловал.
И вдруг присел – быстрее, чем понял почему. Мимо мелькали сапоги, туфельки, ботинки, ноги в брюках, ноги в носочках. Шурка осторожно приподнялся. Юркнул за киоск. Киоскерша тотчас покосилась на него; как бы чего не стянул – прочел в ее взгляде Шурка. Но ему на это было наплевать. Он выглянул.
Ура, тетя Вера не заметила его. Меж бровей морщинка, губы сжаты. Вид решительный, будто покупала по меньшей мере козу. Тетя Вера протянула деньги и затолкала в сумку протянутые продавцом меховые рукавицы. Шурка удивился рукавицам не меньше, чем если бы продавец подвел ей козу или коня: пухлые, неуклюжие, жаркие – кому нужны такие в июне?!
Тетя Вера шла уже между рядами. И все высматривала. Она была похожа на курицу, которая вместе с другими курами деловито ходит, роет лапкой. Пороет – посмотрит круглым глазом.
Мысль о том, что он ее видит, а она его – нет и даже не подозревает об этом, привела Шурку в восторг. Не Шурка выскользнул из-за киоска, а великий сыщик Нат Пинкертон. И взял след.
Тетя Вера остановилась у душистых насыпанных гор. От них вкусно пахло компотом.
– А яблоки почем? – услышал Шурка.
Тетя долго надоедала продавцу: а хорошо ли высушены? А сладкие ли? А эти почем? И купила самые лучшие. Протянула несколько бумажек.
В лотерею выиграла, что ли? – недоумевал Шурка. И удивился еще больше, когда тетя Вера купила вдогонку чернослив и изюм. Точно, в лотерею.
На выходе с рынка он чуть ее не потерял, но ловко подхватил след на проспекте.
Тетя зашла в булочную. Военный в нашивках любезно пропустил ее вперед к прилавку. Она купила карамель с розовым раком на фантике. Но на этом не остановилась. Шурка даже засмеялся тихонько. На лице военного он увидел нетерпение и досаду: вот так проявил вежливость, вот так влип! А тетя все допытывалась у продавца:
– А печенье как? Не заплесневеет?
– Вы, гражданка… – не выдержал военный и помотал головой, словно силясь вытряхнуть из памяти нужное слово.
– Тогда и печенье дайте, – показала тетя.
Продавец бросил на прилавок две пачки. Тетя Вера жестом его поправила. Продавец удивленно стукнул на прилавок еще две пачки, и еще две, и еще.
– Вы просто какая-то… сладкоежка! – выпалил наконец военный и бросился вон, едва не сбив Шурку.
Давно у них дома не водилось сладкого. А тут тетя пустилась во все тяжкие. Вот молодец! – радовался Шурка. Выиграла – и теперь готовила им всем сюрприз. Пир. Вот так тетя Вера!
Только что это она все покупает много одинакового? – заволновался он. Зачем так много печенья? Одной пачки хватит. Лучше не печенье, а пять сочных пирожных с кремом: два ему, два Тане, ну а Бобке хватит одного – маленьким вредно сладкое. А взрослым оно и вовсе ни к чему.
Шурка едва успел отскочить и спрятаться. Тетя Вера вышла, обнимая коричневый бумажный пакет.
Следующую остановку она сделала в аптеке. Просочиться следом было невозможно: над дверью висел колокольчик. Шурка глядел через окно. Он видел, как аптекарь вскинул брови, потом долго отсчитывал упаковки с таблетками. Перетянул их резинкой. Заболела? – удивился Шурка. Но сообразил, что это витамины. Понятно: в последнее время тетя выглядела серой и усталой.
Может, выскочить, заорать «Ура! Поздравляю!» – и помочь с пакетами? Вон как она для них старается. Аж в спине перегнулась, и лицо красное.
Но Нат Пинкертон победил.
Тетя шла и шла. Великий сыщик с нежностью смотрел на ее согнутую спину. Ах, тетечка Верочка! – радовался он, ведя след. И представлял: печенье в вазочке, шоколад в другой, из сушеных фруктов – компот, а карамель можно и так. Праздничный стол был готов.
Но тетя Вера все не шла в сторону дома. Сворачивала в переулки. Снова выходила на широкие улицы. Брела дальше. Что это она носится как угорелая, недоумевал Пинкертон, и так ведь всего много. Он уже сам устал.
Наконец тетя Вера замедлила шаг. Бросила взгляд через плечо, потом другой. Шурка замер за фонарным столбом, вжал живот. Потом осторожно высунул нос.
Тетя вошла на почту. Самое главное отделение. Главпочтамт.
Шурка приметил толстую старуху в цветастом платье. Неслышно пристроился за ней. Юркнул внутрь. Шмыгнул за столб. В центре огромного гулкого зала крыша была стеклянной: на звонком полу в шашечку стояли большие и легкие солнечные кубы. На скамейках люди обмахивались газетами.
Тетя Вера встала в очередь. Шурка дожидался, пока она подойдет к окошку.
Она что-то сказала. Ей что-то сказали. Шурка осторожно проскользнул за другой столб – поближе.
Блеснула лысина: мужчина в черных нарукавниках перегнулся из-за прилавка, посмотрел, кивнул. Ушел. Пришел. Поставил на прилавок небольшой ящик.
– Красноярский край? – уточнил он.
Тетя Вера поставила в ящик один пакет. Уложила другой. Скормила ящику сушеные яблоки. И изюм. И печенье. Шурка глазам своим не верил. Поверху легли меховые рукавицы.
– Готово?
Тетя Вера кивнула. Лысый приемщик быстро накрыл все это крышкой с клыками гвоздей и бахнул несколько раз молотком. Холщовый мешок чулком наполз на ящик. Приемщик быстро прихватил края грубыми стежками, щелкнул ножницами. Вкусно зашипел сургуч. Лысый ляпнул его на коробку палочкой – тут, здесь, там. Стукнул по нему печатью – тут, здесь, там.
Тетя Вера протянула радужные бумажки.
– Почтовые переводы в другом окне.
Лысый крякнул и перетащил тетину коробку – уже не тетину – к другим.
Шурка беспомощным взглядом проводил ее навсегда. Этого не может быть, думал он. Обида стиснула желудок. Допустим, он ослышался. Не в Красноярский край, а в Краснодарский. Какая разница? Ни там, ни там у них все равно никого не было. Ослышался или нет, но посылка оставалась посылкой. И радужные бумажки были деньгами и ничем другим.
Для кого-то чужого тетя Вера почему-то нашла и вкусненькое, и деньги. А им, родным людям, только и твердит: дороговато, денег нет. Нет?!
Шурка обозлился. Настоящая, родная мама так бы никогда не поступила!
И вдруг в голове охнуло. Стало так ясно, будто кто-то сказал ему в самые уши. Шурка не успел подумать «не может быть», не успел заткнуть этот голос, как он с той же окончательной ясной силой рявкнул: может.
У тети Веры была своя тайная жизнь. И хорошей эта тайна не была.
Глава 3
– Это точно здесь? – спросила Таня.
– Точно-точно, – заверила ее Люська. – Ну? Чувствуешь?
Таня не чувствовала ничего.
– Да ты глаза закрой! – приказала Люська.
И Таня закрыла.
– Ну?
Таня слышала негромкий плеск воды – не звонкий, как в центре Ленинграда, а вялый, плюхающий. Пованивало. Больше Таня не ощутила ничего.
Ей надоело, и она открыла глаза. Вода в канале была мутной, бурой. Он и назывался подходяще: Обводный. Вода несла мусор. Дома на набережной напротив были как запыленные животные, которые много дней шли на водопой, пришли – и обнаружили, что пить эту воду нельзя. Стоят и не верят. А сил пошевелиться, сделать что-нибудь уже нет. Каменными хоботами тянулись вверх трубы.
– Как? Тянет? – спросила Люська, не поворачивая головы. Она крепко зажмурила глаза.
– Куда?
– В воду кинуться.
Таня скривилась от отвращения. Мимо проплыло вздутое нечто; не хотелось и думать, что именно.
– Нет, – честно призналась она.
– Должно. – И замогильным голосом начала: – Раньше здесь было кладбище.
Дура какая, подумала Таня.
– Люська, ладно. А эта Котя – она…
– Да погоди ты! Карельское. Древнее, – не унималась Люська. – И рабочие его нашли, когда копали, и выбросили все на свалку. А камни на поребрик пустили.
– Брехня, – оборвала ее Таня. Ее интересовало другое: – А кого еще Котя пригласила?
Люська лишь пожала плечами, словно отмахиваясь.
– И не брехня. Говорю же – советские рабочие. Как кладбище разрушили, так в то же лето люди начали здесь кидаться в воду.
– Скажи, а Котя…
Люська распахнула глаза.
– Не брехня, говорю! Почти сто человек убились. Мне мать рассказывала. Это в двадцать третьем году было. А в тридцать третьем снова – бабах! Опять все кидаться начали. Милиция даже дежурила. И все без толку. Больше сотни тут утопилось.
Таня посмотрела на сонную мутную воду. Утонуть здесь? Наглотаться этой воды? Ее передернуло.
В Люськиной истории не все концы сходились с концами.
– И что, милиция дежурила – и никого не спасли? Это как?
– Кого-то спасли. Расспросили. Так там еще хуже: они, говорят, кидаться и не думали. А только шли мимо, и вдруг тошно им стало, и будто толкал кто-то: кинься да кинься.
– Это тебе тоже мама рассказала?
– Ну.
Мать у Люськи работала на заводе, читать почти не умела и даже в церковь бегала. С ней все было ясно.
– Так что мы Коте подарим?
Денег у Тани не было, просить тетю Веру было бессмысленно.
Люська опять пожала плечами. Но уже с другим выражением.
– А ей подарки ни к чему.
– День рождения же, – удивилась Таня.
– А они богатенькие.
Таня хотела возразить: что за чушь? В Советском Союзе богатых нет, все равны. Но Люська неожиданно согласилась:
– Вообще ты права.
Подняла пятерню, загнула мизинец.
– Первый раз в двадцать третьем году, так?
Загнула безымянный палец.
– Потом в тридцать третьем.
И радостно объявила:
– Ничего здесь сейчас и не будет! Два года еще ждать, ясно? Придем сюда в сорок третьем.
– Ха.
– Чего?
– В сорок третьем нам будет пятнадцать.
Она хотела сказать: некогда будет всякими глупостями заниматься.
– Танюша! – удивленно окликнул голос позади.
Таня обернулась.
Павел Андреевич держал велосипед за рога. Похоже, он только что вывел его из парадной. От улыбки, как обычно, расходились лучики-морщины.
– Как ты здесь оказалась? – весело удивился он.
Павел Андреевич был учителем. В прежней Таниной школе. Еще до всего.
– Вы кто? – набычилась Люська.
В школе Павла Андреевича обожали. Он был, как говорили, нормальный. Не то что остальные учителя. Он все понимал.
Таня обрадовалась. Ей хотелось спросить его, как там эта, как тот, как все.
Внезапно Павел Андреевич приоткрыл дверь в подъезд, сунул голову, покрутил туда-сюда. Убедился: никого. И вынырнул обратно совершенно другим человеком.
– А ты уже вернулась от мамы?
Слова у Тани замерзли во рту. А Павел Андреевич все так же улыбался.
– Тетя твоя сказала, что вас всех троих к маме отослала.
– К маме? – удивленно переспросила Люська и посмотрела на Таню.
Павел Андреевич не унимался:
– Куда твои тетя с дядей переехали? Не знаешь?
Таня покачала головой: нет.
«Говорят, твои родители – враги народа», – просвистел в ушах у Тани давний шепоток соседей в их прежней квартире. И учителей в их прежней школе. Стоял с ними Павел Андреевич? Ей тогда казалось, что нет. Теперь – что стоял. Вот почему они переехали.
Вопросы не иссякали.
– Она где теперь живет, твоя тетя?
Но Таня только таращилась.
– Не больно ты разговорчивая, – засмеялся Павел Андреевич. – А подружка твоя что молчит? Немая?
Люська ответила угрюмым взглядом. Она не любила таких взрослых. Улыбался Павел Андреевич по-прежнему, а в глазах – волчий огонек.
Таня только плечами смогла пожать.
– А где твоя тетя теперь работает?
– Я не знаю, – выдавила Таня.
Так вот почему тетя Вера забросила свои кисточки и краски. Вот почему нашла работу на заводе. И дядя Яша тоже. Вот почему.
– А мама твоя ей пишет? А папа? – все наседал Павел Андреевич.
В груди у Тани сердце закувыркалось – не вздохнуть. Таня поняла: значит, да! Тетя Вера знает, где мама. И где папа. Но опять помотала головой, как лошадь, которую донимают мухи.
– Ты что, не знаешь, где твоя мама? А подружка твоя? – Павел Андреевич обернулся к Люське. – Знает?
Никто в новой школе и в новой квартире не знал, что Таниных маму и папу арестовали три года назад. И с тех пор о них никто ничего не знал. «Тетя Вера знает!» – стучало у Тани в висках.