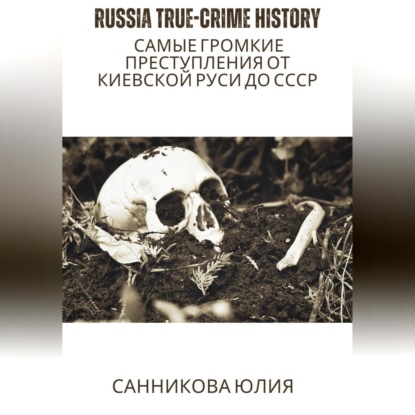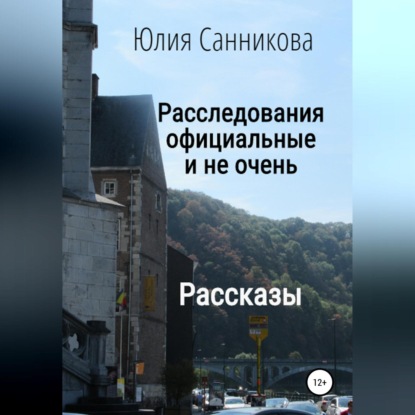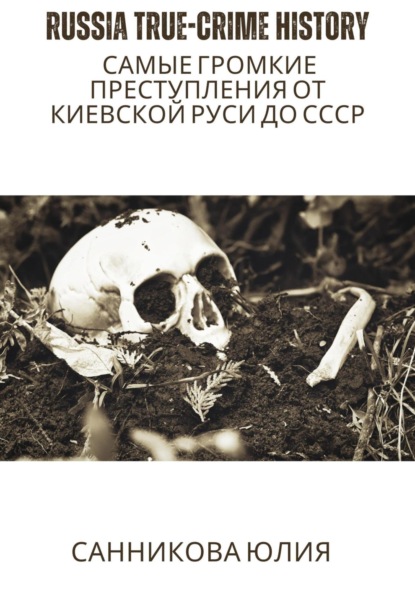Полная версия:
Юлия Валерьевна Санникова Гридя – вдовий сын
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Юлия Санникова
Гридя – вдовий сын
Так начнем рассказ сей.
После потопа, случившегося за тысячу лет до описываемых в этой книге событий и унесшего много жизней, государи, правившие каждый своим племенем, разделили Великую Долину. Горы достались бессмертным серафинам. Чертям и разной нечисти, тоже живущей вечно, если только не убить их намеренно, оставили непроходимые чащи, болота и лесные реки. Люди же получили поля и равнины.
По прошествии времени умножились люди на земле, разошлись по Великому Долу, сели по разным местам и строили города большие и малые. И называли те города по имени мест, где сидели. Так один нарекли Холмогорами, так как город возник на холмах. Другой поставили за Гнилым лесом, и, потому что жители промышляли бортничеством – добывали мед у лесных пчел, – окрестили Медыней. Третий назвали Зыбун, поелику стоял он в окружении зыбучих, топких болот.
Когда широколицые кочевники с юга напали на северные народы, и поселились среди них, и притесняли их, то некоторые северяне пришли и сели у моря Сиверского, с берегов которого в ясный солнечный день пристальным оком можно разглядеть ледяной материк. И построили тут город, прозванный Студенец. А иные, самые отважные, сошли в ладьи и поплыли дальше.
С севера на юг Великой Долины лежит дорога прямоезжая. От замерзшего моря, волоками спускается она к стольному граду Холмогорам; по мосту, построенному в незапамятные времена, бежит через речку Волчанку; петляет через Гнилой лес и Медыню; забирает в горы, где обитают псоглавцы и солончаковая нечисть. Тянется сквозь Медвежью гору и село Вареж и приходит, наконец, к Алатырскому морю, посреди которого стоит Латырь-остров. Остров тот заколдован, – на нем, по рассказам сведущих в таких делах, обретаются души умерших людей и бессмертных, павших в бою или от болезни.
Племена Великого Дола имели свой уклад и чтили законы предков. Каждое отличалось особенным нравом. Люди жили кротко и тихо, слушались старших, хлеб насущный добывали в поте лица. Весной сеяли жито. Летом сходились на торжища, строили жилища; доказывая верность старинной пословицы, подготовляли сани. Осенью собирали урожай, запасались припасами для себя и скотины. С приходом холодов плели лапти, ткали холсты, чинили инструмент и готовили телеги, в наступивший им зимой черед.
Нечисть жила обычаем звериным, по-скотски: болотные черти и русалки убивали лесовиков и кикимор, и все они питались гнильем и падалью, свадеб не играли, невест и жен умыкали, случалось, что воровали людей, бранились при родителях и детях. И если кто из бесов умирал, то устраивали шабаш. Вкруг мертвеца водили черного козла, ведьмы прилетали и носились в ступах, покойника привязывали к колоде и бросали в огонь.
Русалки развлекались так: по ночам выходили из воды, садились под деревьями, расчесывали рыбьими гребешками длинные свои волосы и пели, завлекая путников. Околдованные пением ничего не подозревавшие прохожие спускались к речке, бесовки хватали их за шеи и щекотали до смерти. Бездыханные тела и сейчас находят иногда в глухих местах по берегам рек.
В хрониках серафинов, крылатых вечно живущих созданий, записано, что их Великий Отец, спускавшийся с небес на землю лишь однажды, заповедал: не распутствовать, не красть, не клеветать, не убивать и не творить никакого зла. Потому племя это, называемое иначе аггелами или белогорцами, по заветам отца и из смирения перед волей его не едят мяса, пьют мало вина, осуждают всякую жестокость и творят добрые дела. Главное занятие их – поиск мудрости и знания. На досуге они музицируют, рисуют, воздвигают храмы, возделывают сады, чертят карты, следят за повадками птиц и зверей, наблюдают за звездами и кометами, потому что обитают в горах, на неприступных вершинах, в царстве вечных снегов, откуда до небесного купола рукой подать. Единственное желание серафинов – обретаться в мире меж собой и с соседями, не вмешиваясь в чужие дела.
Люди же в те далекие времена жили каждый сами по себе и управлялись старшими в своих родах. И не было между ними дружбы, и встал род на род, и город на город. И завязалась усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали старшины: «Найдем князя, пусть правит нами и судит по закону, раз мы никак не договоримся». И пошли на север, к предкам нынешних гипербореев и сказали им: «Край наш широк и обилен, а порядка в нем нет. Приходите и властвуйте над нами».
Править пожелал некий князь по имени Магнус. Собрал дружину, взял жену и детей, пришел, и сел в Холмогорах. И сделал Холмогоры столицей.
Взойдя на трон, он решил править с намерением никого не обижать, но не давать пощады подстрекателям к насилию и бунтовщикам. В десятый год княжения он казнил Рахмана-разбойника тем же самым способом, каким Рахман погубил многих путников. Он кричал и свистел им в уши страшным звериным криком, отчего несчастные умирали, словно от удара молнии.
Дикий кабан, поселившийся в лесу у Берендеева посада, был воинственным и свирепым противником. Он опустошал окрестности и наводил ужас на жителей. Мангус с пятью верными воинами, подстерег его и прикончил. Некоторые, правда, утверждают, что кабана убили посадские, насадив его на рогатину, и десять домов питалось мясом его в течение недели, так велик был зверь. А Мангус, мол, о кабане и не подозревал.
Пришло время и умер Мангус. И было лет ему всего шестьдесят восемь, а правлению его – тридцать три года. В Холмогорах до сих пор сохранился скромный могильный камень с надписью «Князю Мангусу». Правление Мангуса осуждали многие достойные люди, но не меньшее число не менее достойных людей восхваляли его царствие. В самом деле прожил он нисколько не чище и не благороднее многих государей.
У Мангуса было трое сыновей и одна дочь. Перед смертью князь роздал сыновьям города: старшему – Ингварю – достались Холмогоры, среднему Ингольфу – Глухово, младшему Сигерду – Дудень. Дочь Регину выдал за рогожского князя. Сыновьям наказал он жить в мире и согласии, в противном случае, грозил гневом богов и неисчислимыми бедствиями, которые обрушатся на братьев и города их, если примутся они враждовать друг на друга.
Через месяц после смерти родителя пошел Ингольф войной на Ингваря, уговорив меньшого брата Сигерда прийти к нему с дружиной. В своей вотчине Глухове он потребовал в войско всех юношей, которым исполнилось восемнадцать лет. Матери при этом плакали плачем великим, не надеясь увидеть сыновей живыми.
И с этими всеми пошли Ингольф с Сигердом на конях и ладьях, и было ладей числом две сотни. И пришли к Холмогорам и потребовали от Ингваря сдаться. Ингварь и советники его, узнав что идет на город сила великая, протянули тремя ладьями с одного берега на другой пудовую цепь и замкнули город. Затворили все входы и выходы, собрали жителей и велели стрелять по врагу из луков, а если полезут на стены по приставным лестницам, то поливать расплавленной смолой и кипятком. Лестницы же баграми отталкивать прочь.
И вышло войско из ладей на берег, и начали воевать люди с людьми, и много убийств сотворили в окрестностях, и сожгли множество домов, и деревни с посадами порушили. А взятых в плен, одних мечами изрубили, других замучили, иных же стрелами калеными поразили, а некоторых потопили в Лебедянь-озере. И много другого зла причинили Ингольф и Сигерт Холмогорам, как обычно делают враги.
После этого повелел Ингольф воинам натесать бревен и поставил ладьи на бревна. Когда подул попутный ветер, подняли они паруса и покатили к городу. Бывшие в Холмогорах, увидев это, испугались и сказали князю: «Отдай брату город, а не то погубит он нас. А отдашь – живы будем».
И решился Ингварь на хитрость. Задумал он для виду помириться с братом, и отправил ему хлеб и вино, верным залогом мира и братской любви. В душе же лелеял злой умысел. В пищу был добавлен яд, которым послужила вода, стекающая, как роса, по каплям из черной скалы близ Гнилого леса. Ее собирают и сливают в ослиное копыто. Ни в чем другом хранить эту влагу нельзя, ибо она разъедает любой сосуд.
Ингольф даров не принял, потому как догадался, что они отравлены. Крепко испугался тогда Марк, и сказал: «Это не брат, но волк лютый, посланный мне на погибель». Имя Ингольфа и вправду происходит от волка.
Делать было нечего. Князь Ингварь приказал открыть ворота и впустить в город братьев с дружиной.
Жители молили вошедших не губить стольный град Холмогоры, не рушить храмы златоверхие, не кропить кровью землю-матушку. Обещали ежегодно платить черную или народную дань. Выносили хлеб с солью и кланялись в пояс, встречали ласково. Ингольф, едва войдя в город и отмахнувшись от хлебосольства, поднялся в палаты княжеские и убил брата своего Ингваря, по старшинству и праву сидевшего на столе родителя, князя Мангуса, а тело выбросил на задний двор собакам. Сигерд, видя это, испугался и бросился бежать, рассудив здраво, что за Ингварем последует его очередь. Но мужи Ингольфа – Труян и Фрелав – схватили его и ударили мечом, и били, пока не прибили до смерти.
И исполнилось прорицание князя Мангуса, и постигла беда людской род.
И стал Ингольф княжить в Холмогорах, а по селам и посадам поставил воевод ближних. И был он в мире со всеми, и ни с кем не воевал, жизнь вел ровную, но праздную, для государства мало полезную. Охотился, и занятие это приятным образом напоминало ему воинскую деятельность, а большей частью маялся бездельем у себя в тереме. И свозили к нему со всех концов множества меда, и пил он его, и пьянел, и было ему от того только хуже.
И пришла зима, и замыслил князь пойти на смородинцев, потому говорили, что с них можно взять богатую дань.
Среди дружинников княжеских разгорелся ожесточенной спор, одни считали, что смородинцы облачились мехами и дорогим оружием, в то время как они голы как соколы. Упрашивали Ингольфа: «Пойдем, князь, с нами, добудешь дани и себе, и нам». Вторые, миролюбивые и веселые, утверждали, что дела нет им до смородинцев, пусть те хоть в парчу и бархат рядятся и мечи из золота куют, то до них не касается.
Князю пришлись по душе речи первых, и пошел он в землю смородинцев за данью и взял много золота, серебра и паволок, так что досталось на всех его воинов и хватило бы еще на тысячу. И творила насилие дружина его: у тех кто добром отдавал нажитое – забирала все дочиста, сопротивлявшихся же била нещадно, а иных топтала конями или секла саблями как траву. Отпустили лишь тех, кто обещал принести еще больше. Набрав богатства, пошел Ингольф назад в Холмогоры. На обратном пути, поразмыслив, сказал мужам: «Возвращайтесь домой, а я здесь еще порыскаю». И отпустил их восвояси, а сам с небольшим отрядом остался, ожидая себе большой поживы.
Смородинцы, узнав, что Ингольф повернул и намерен их снова грабить, придумали его извести. Они знали, где князь раскинул шатры, и послали туда одного смелого юношу, сына кожемяки. Отец сделал ему мягкие сапоги, и тот ступал в них по земле неслышно, точно по ковру. Юноша пробрался в лагерь и задушил князя, а с ним и ратников его, да так, что никто не пикнул, и ни одна собака того не услышала.
И оставили тела без погребения, и лежат бренные кости Ингольфа где-то на реке Смородине, и никто про них не ведает.
Получив известие о смерти Ингольфа, сел в Холмогорах княжить его законный сын Юрий по прозвищу Косматый, он отрастил огромную бороду, не снимая носил потрепанный солдатский корзень и всегда имел злой и угрюмый вид. Двое младших сыновей, рожденных Ингольфом, как утверждают некоторые, посредством волхования от нечистой, поехали странствовать и добыть себе волости. Средний Олег набрел на землю теребовичей и основал в ней столицу – Торбов. Младший княжич, Ивор сошелся с кочевниками-согдяками, женился на дочери кагана, и задумал воевать восточные земли.
Однажды согдяк, именем Безек, старший сын того кагана пошел войной на соседних будунов. В то время Олег, охотившийся в лесу неподалеку, заметил царского отпрыска и спросил своего воеводу: «Кто это?». И ответил ему тот: «царевич Безек». И напал на него Олег, и убил его, потому что сам захотел взять дань с тех людей. И поднялась вражда между Ивором и Олегом, и убеждал каган Ивора, горя жаждой мести за сына, чтобы тот пошел на брата и захватил город его.
Прошел год, и пошел Ивор не на Торбов, где правил Олег, а на Холмогоры, где правил, как мы помним, другой его брат, старший в роде – Юрий. И затворился Юрий с дружиной в кремле. И стал Ивор на другой стороне города, у переправы, в пределах полета стрелы, и привез тараны стенобитные и перевесы приступные, и начал метать камни, рассчитывая с первого же удара разбить и истребить врага.
Юрий и дружина его сражался крепко, но жители начали изнемогать. Послали к Ивору спросить: «Зачем ты воюешь с нами. Что мы тебе сделали?» На что тот ответил: «Не вас мне надо, но брата моего». И вспомнили холмогорцы: то же самое было при родителе князя – Ингольфе, и еще раньше при Ингваре, которого тот самый Ингольф убил. И решили жители, что хватит с них братоубийства, сыты они им по горло.
Одна женщина именем Марфа пришла ночью в стан кочевников, велела проводить себя к начальнику, и, войдя в шатер Ивора, сказала: «Брат твой каждый день ночует на Чуриловом дворе, а я у него стряпухой. Если выберешь из твоих воинов побелей, да порумяней, похожих на княжьих прислужников, провожу их до самой его спальни». Ивор же, услышав это, тотчас позвал сына, коему в то время едва минуло четырнадцать лет, и приказал следовать за Марфой, вложив тому в руку ножичек. Мальчик проник в опочивальню к князю Юрию и зарезал его. Жители отворили ворота и впустили кочевников.
Ивор с дружиною вошел в город, расставил караулы на всех высотах и башнях, посмотрел на дома, и сады, и кремль белокаменный, и сказал: «Славный у вас город, хочу здесь княжить». Услышав это, опечалились жители, и ответили ему: «Не хотим больше князей, хотим сами собой владеть». Ничего не ответил на это Ивор, но разместил воинов своих по домам и дворам, и велел жителям кормить и поить дружину его, и обложил тяжелой данью. А тех, кто не соглашался с несправедливостью, повесил на городских воротах. И был Ивор словно бешеный зверь, который никак не насытится убийствами и кровью. Каждый день выдумывал новые еще более тяжкие повинности и жестоко карал жителей за малейшую ошибку. Тюрьмы были переполнены, плотники не успевали строить виселицы, куда каждый день отправляли новых смутьянов и изменников.
И возмутились холмогорцы, а больше всех Марфа-стряпуха, ведь это она привела кочевников в город, и взбунтовались. Вооружились вилами, косами, топорами и в одну ночь перебили всех согдяков, а Ивора с сыном посадили в лодку и пустили по реке с наказом никогда назад не возвращаться.
Сделав так, холмогорцы от мала до велика собрались на торжище и положили: дела отныне решать общим собранием – вечем, а созывать к нему будет колокол на Дозорной башне, от этого прозванный вечевым. В том собрании могли участвовать все жители города, достигшие совершеннолетия, и бабы, и мужики без различия. Для писания законов избрали городской совет из двенадцати человек, которые заседали пять лет, а по завершении срока на их место приходили новые. Тот же, кто служил народу доблестно и благородно, действовал разумно и осмотрительно, как нельзя лучше для благой цели, даже вслед за жестокой неудачей, оставался в городском совете еще на столько же.
И с тех самых пор не было больше в Холмогорах князей, прекратились война и междоусобицы. И правил страной справедливый закон, а не мятежный вождь, который, возбуждаемый страстью к приобретению власти и богатства, прибегает к насилию и в одну минуту делается палачом и деспотом.
И жили люди в Холмогорах с тех самых пор промеж себя в мире и согласии.
Глава 1. В холмогорской харчевне
В Холмогорах в те далекие времена, от которых сегодня не осталось и следа, а сохранились одни легенды да присказки, было по меньше мере двадцать харчевен. Если жить в городе, то можно было быть спокойным: от голода не умрешь. В харчевнях подавали обычные, но непременно свежие кушанья: щи, кашу на конопляном масле, жареного поросенка, мягкий белый хлеб, кисель – словом, все то, что привычно есть человеку с хорошим аппетитом.
В одной такой харчевне за столом, стоявшем во дворе рядом с плотным плетнем, сложенным из покрасневшего на солнце хвороста, сидели двое членов городского совета или дьяков, как называют их в Холмогорах, но, впрочем, так их называют и в других городах, например, в Медыне или в Глухове, и даже, наверное, в селах. Дьяки эти были – Иван Григорьев и Томило Васильев.
Народу в заведении было мало. Июльское солнце пекло неимоверно, деревья за оградой замерли в раскаленной полуденной тишине, шепот листьев утих, все живое затаилось и замолкло. Птицы не пели, комары не пищали, куры нахохлившись и топорща дыбом перья сидели в сухой горячей пыли и щурили подслеповатые глаза. Редкие посетители прятались под навесом, или шли внутрь. Там хозяйка открыла настежь двери и окна в отчаянном желании устроить сквозняк и охладить неподвижный горячий воздух.
На дьяков никто не обращал внимания. Только двое мужиков, проходивших мимо кабака, сделали одно замечание, больше касающееся, впрочем, заказанного дьяками, чем их самих. «Экая, братец ты мой, кузница сегодня, – заметил один из них, рослый мужичина с продолговатым лицом и длинным кривым носом, – Печет и печет, как в аду. Квасу бы студеного в тенечке выпить. Слышишь?» – «Отчего бы не выпить», – отвечал ему второй, лицом похожий на извозчика. – «Или чаю холодного?» – «Можно и чаю». Тем разговор и кончился.
У Ивана Григорьева было румяное лицо и внушительный живот, такой, что захоти его обладатель соединить на поверхности руки, он бы не имел на это никакой возможности. Томило Васильев был бледен и тощ, как скелет от селедки, и являл собой полную противоположность Григорьева. Он утром возвратился из Медыни, куда ездил по казенной надобности. В Холмогорах его не было два месяца, и Григорьев рассказывал, что приключилось в его отсутствие. Васильев в ответ делился впечатлениями от поездки.
– Слава богу, доехал, – говорил иногда сиплым баском Томило, поглядывая на Васильева. – В Медыне все по-старому, и князь тамошний все то же самое. Недоимки в городе запущены, а у правителя одно легкомыслие на уме.
– А Плешаков Гаврила как поживает?
– А кто таков Плешаков?
– Боярин из Медыни, двор у него рядом с Бобровым.
– Нет, не слыхал, нет в Медыне такого боярина.
– Куда ж он подевался? А кто там есть?
– Палкин, Ахмыл, Богдашкин, Гораздов, Сом Торчин, Кукша.
– Надо же, ни одного не знаю… Почтенные люди иль нет?
– Прекрасные все люди, уважаемые обществом. Гораздов даже шубой с княжеского плеча подарен.
– А я тебе имею сообщить известие. Неприятная история с нами приключалась: мастер-зодчий едва не помер.
– Как едва не помер?
– Да вот так. Упал со шкафа.
И Григорьев рассказал, как было дело. Поведаем и мы читателю, как развивались события.
Часа в три дня, ровно неделю назад, во вторник, как раз именно в то время, когда в городском совете обычно оканчиваются заседания и советники, с чувством выполненного долга расходятся по домам, главный холмогорский архитектор, Иев Кузьмин, находясь в древлехранилище, где в любое время года, когда не зайди, пахнет пылью и сальными свечами, полез на шкаф, на самую верхнюю полку, потянул за что-то, за что лучше бы не тянуть, после чего лежавшая там кипа книг и тетрадей с шумом рухнула вниз, опрокинув лестницу, на верхней ступени которой он в тот момент помещался. Расстояние до пола было изрядное. Пролетев его и упав навзничь, Кузьмин успел заметить заглавие первой, низринувшейся на него книги. Называлась она «О пользе луковой шелухи», корешок в одном месте был изъеден мышами. Этот факт был последним, который мастер-зодчий отметил, после чего потерял сознание и очнулся уже в постели архивариуса, квартировавшего прямо в здании, куда был перенесен после того как обнаружили его распластанным на полу и придавленным книжной мудростью.
– И чего ему наверху понадобилось? – вопрошал Томило.
– Чего?! Видно уж судьба такая. До сих пор господь его миловал, теперь пришла и ему очередь. Я ему несколько раз об этом замечал «Не суетись!», да все без толку. Он человек ученый и сведений у него в голове понапихано, на четверых неучей хватит, да только носится он повсюду с такой опасной прытью. Начнет объяснять, раскричится, взбудоражится, вытащит бумажку, станет рисовать на ней, тыкает тебе в нос, вот, мол, смотри, как надо здание сие строить. А ответишь ему невпопад, так расплачется или, что еще хуже, вскипит и дураком обзовет. Оно конечно градостроительство – дело важное, и башни нам нужны, и здания всякие, но зачем же скверными словами обзывать?
– В прошлый раз едва под телегу не попал, – вспоминал Томило, – шел по улице, сам с собой заболтался, а тут телега мимо едет. Кучер три или четыре раза кричал ему, да тот не слышит, словно не к нему обращаются, идет, руками размахивает, головой трясет, как очумелый, кучер его кнутом по спине и хлестани.
– Ну все. На этот раз отходился… Неизъяснимый закон судеб повелевает теперь им.
– Как так?
– Да так: лежит вторую неделю. И уж надежды нет, что встанет. Раньше-то рот не закрывался, а теперь путного слова от него не добьешься, только и знает, что мычит теленком и глаза таращит. А кто работу-то теперь завершит? Я тебя вот спрашиваю! А? Некому!
Григорьев удрученный замолчал и почесал затылок. Эх, кабы характер архитектору поспокойней!… Томило Васильев тоже находился в подавленном настроении. Ох! Кабы выпутать из беды мастера-зодчего…
Иев Кузьмин, главный холмогорский архитектор действительно был весьма сведущ в науках и технологиях, хоть и обладал неустановившимся, можно сказать, ребяческим характером. Он был уже мужчина в летах, но, что называется, без душевной солидности. Инженерному делу выучился сам, и через свое ремесло считался заметным и уважаемым человеком, не только потому что долго корпел над книгами, но и потому что предложил полезные нововведения, сильно облегчавшие жизнь горожан.
Он замостил проезжие дороги и базарную площадь, а тротуары, взамен бревенчатого настила, бывшего на них ранее, выложил каменными плитами. Дерево имеет неприятное свойство гнить и превращаться в труху, тогда как камень стоит незыблемо и вечно. Подковы рысаков и кляч звонко доставали мостовую, пешеходы восхищенной дружной толпой разгуливали по тротуарам.
Главную улицу Кузьмин засадил березками, а еще ходатайствовал об устройстве в Холмогорах академии, но решения покамест не добился.
Под влиянием доклада, который архитектор зачитал городскому собранию, был издан закон о штрафе, а затем и о запрещении строить в жилых домах, расположенных внутри кремлевских стен, вторые этажи, так чтобы они нависали над первыми и затемняли улицы. В посаде же, где здания стояли просторно, строй хоть Вавилонскую башню, никто слова поперек не скажет.
– Скоро вы у меня заживете, как следует! – сказал Кузьмин, после того, как были устроены мостовые.
После чего заперся у себя в кабинете, почти не ел и не пил, из-за двери слышалось только скрипение пера. По временам он прибегал в Думу, так еще по-другому называли некоторые городской совет, кидал секретарю кипу исписанных листков, произносил «Вот вам, глядите!» – и вновь скрывался в кабинете. Вулканическая деятельность развернулась во всех слободах и на всех городских улицах.
В каменоломнях тесали камень, в карьере добывали глину и лепили из нее тонкие кирпичи – плинфу. Кирпич сушили две недели, а потом обжигали. Дым от сотни печей валил клубами и собирался на небе тучами. В городе рыли канавы, изнутри выкладывали их камнем и кирпичом, промазывали раствором, чтобы не осталось щелей. Сверху канав стелили плитняк. А архитектор все сидел и чертил все новые и новые перспективы. Рев и грохот проносились из одного конца города в другой и над всем этим рабочим шумом, над всей круговертью, словно журавлиный крик царило исполненное вдохновения: «Вы у меня заживете!».
Горожане ликовали. Иев Кузьмин задумал проложить водопровод. Провести воду из Лебедянь-озера, которое раскинулось прямо за городской стеной, в Холмогоры. А еще устроить так, чтобы воду можно было греть с помощью специальных хитрых приспособлений. Для этого были произведены масштабные работы.
– Ну, будет нам веселье! – беседовали между собой осчастливленные мыслями о водопроводе обыватели, – и помыться будет где, и покалякать за приятным времяпрепровождением. Бани-то личные не у каждого имеются, а тут такой паллиатив.
Надо еще заметить, что купальни предполагалась делать общественными, то есть бесплатными, доступными для всех и каждого, а не только для богатых горожан, которые и сами могли себе устроить горячую воду в любое время дня и ночи, было бы желание.
И вот, когда работа была в самом разгаре, с главным архитектором произошел тот самый неприятный случай, грозивший, как всем стало тут же ясно, поставить крест на благородной затее. Завершить водопровод, кроме Кузьмина было, увы, некому.