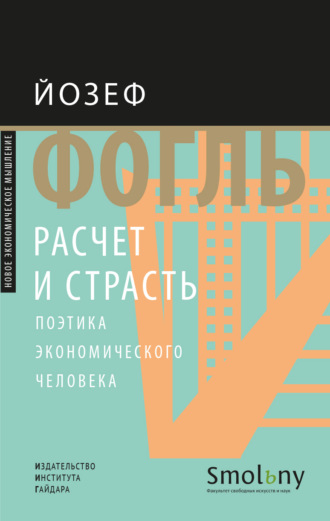
Йозеф Фогль
Расчет и страсть. Поэтика экономического человека
Граница репрезентации
Итак, тот, кто хотел бы считать театр репрезентации не театром, а фактом исторического мира, рискует видеть во всяком прогрессе регресс, во всяком успехе – неудачу и во всяком движении – лишь стагнацию. В конечном счете бесконечная трагедия превращается для него в фарс, и даже если, как делает вывод Кант, «актеры и не устали, потому что они шуты, но устает зритель, которому довольно одного-двух актов, чтобы с полным основанием заключить, что эта никогда не оканчивающаяся пьеса есть вечное повторение одного и того же»[55]. Если некогда один из настоящих актеров, реальный Дантон, как напоминает Кант, запутавшись на подмостках революции, хотел свести существующее гражданское устройство к фактически существующему соглашению[56], то позднее сценический Дантон, наоборот, видел в учреждении лишь беспочвенность, в исходном пункте закона и репрезентации – лишь бесконечное повторение и ничего, кроме масок и марионеток. И именно поэтому, кажется, настало время завершить бесконечную игру и «сорвать маски», тем более что само время покинуло тех, кто учреждает и дает закон «от чьего-либо имени» – «время теряет нас», говорит протагонист драмы Бюхнера[57]. Эта неустранимая дивергенция репрезентативного акта и исторического времени превратила драму репрезентации в «фарс суфлера», фальшивые слова и гримасы которого только воспроизводят дефигурационные процессы в фигуре государственного лица прошедшей эпохи. Если теперь, в кошмаре революции, маски падают вместе с головами, то все personnae, все маски римской истории, присваиваемые бюхнеровскими революционерами по образцу реальных, суть не что иное, как окаменелости прошлой истории, и они лишь запечатлевают факт не-репрезентируемого: «Он делает такое лицо, будто сейчас окаменеет, чтобы потомки раскопали его, как античную статую»[58]. В любом случае договор, репрезентация и персонализм утрачивают свое консолидирующее воздействие на societas civilis, а упадок естественного права и теорий общественного договора в XIX столетии не только самым разрушительным образом выявил их апоретическую структуру, – бесконечный регресс, логический круг или антропологический тупик, – но и одновременно перекодировал связь между правом, учреждением и репрезентацией; примерами могут служить историческая школа, органицизм права и функционализм[59].
Одновременно это означает: театральное ядро удаляется из тела закона, исходный пункт речи становится вакантным, а время учреждения и время истории теперь отделены друг от друга. Начиная с Канта время истории будет выглядеть законосообразным только в зеркале своей доисторичности. Стало быть, и на рубеже XVIII–XIX веков государство, пожалуй, все еще ведет себя, действует и говорит как прозопопея, его существование как существование некоей личности все еще представляет собой своего рода неизбежность, от которой и впредь будет невозможно уклониться[60]. Пожалуй, только в «общественном договоре» государство выглядит как «живое органическое тело», договор этот реализуется как «спектакль для людей и богов», а этот спектакль, в свою очередь, предстает «празднеством» представителей и репрезентантов – как на Марсовом поле 14 июля 1790 года[61]. И наконец, пожалуй, государство все еще сводится «к репрезентации», в государстве «все является театральным действием», а «в народе – театральной игрой»: «Монарх ставит бесконечно разнообразный спектакль, в котором неразличимы сцена и партер, зритель и актер и в котором сам он – одновременно поэт, директор театра и герой пьесы»[62]. Но как революция растеряла энтузиазм своих зрителей, а государственно-правовая репрезентация утратила свою историческую санкцию, так и отличительный признак государства, его прочность, его реальность и эмпирия, более не связаны с этим театром представительства и с «репрезентативной формой», которой отныне – как «бумажному клею» конституций[63] – все более явно отказывают в полномочиях самой определять государственную практику и модус бытия государственного существа. И, возможно, политическая способность воображения более не в состоянии представить эту театральную репрезентацию иначе, чем как парящую в вышине пустую, обезлюдевшую сцену, на которой нет ни репрезентанта, ни репрезентируемых, как мертвое, роскошное и отражающееся в себе самом пространство, игровая площадка без игры, как ее увидит Карл Росман на открытке с «видами театра Оклахомы» в «Пропавшем без вести» Кафки: «На этой же была запечатлена ложа президента Соединенных Штатов. С первого взгляда вообще можно было решить, что это не ложа, а, наоборот, сцена – так плавно, величаво и непреклонно взмывал ее парапет над окружающим пространством. Сам парапет – до последней мелочи – был из чистого золота. Между точеными, словно вырезанными тончайшими ножничками, столбиками его баллюстрады были укреплены медальоны с портретами бывших президентов, особенно выделялся один, с надменным прямым носом, выпяченными губами и угрюмым, неподвижным взглядом из-под набрякших, приспущенных век. Со всех сторон, по бокам и сверху, ложа была высвечена снопами мягкого света; этот свет, достаточно яркий и одновременно ласковый, буквально заливал ложу снаружи, тогда как глубины ее, надежно укрытые пурпурными складками тяжелого переливчатого бархата, который окаймлял ложу по всему периметру и раздвигался на шнурах, таили в себе темную, зияющую красноватыми отблесками пустоту. Почти немыслимо было вообразить в этой ложе человека – настолько царственно выглядела она сама по себе»[64].
2. Политическая физика
Невидимая рука в «Вильгельме Мейстере»
Театрально-политическое призвание Вильгельма Мейстера вполне можно понять как реакцию на появление того самого «общественного лица», которое сделалось центром легитимационной игры и границей, очерчивающей область правомерности и компетенции новоевропейской политики. Как эффективность и действенность этой фигуры отличает именно то, что они направлены на учреждение неучреждаемого, так и театральный проект Мейстера остался на свой манер убыточным. А именно: если театр и театральное общество хотя бы на несколько мгновений могли показаться «маленькой республикой» и формой некоего «нового государства», «странствующим царством» и тем самым во многих смыслах институтом «отечественной» сцены, то уже вскорости они сталкиваются с обстоятельствами, разрушающими эту форму и буквально разгоняющими эту компанию, обстоятельствами, которые не могут ею репрезентироваться, разыгрываться и регулироваться: денежными проблемами и нехваткой капитала, конкуренцией и несчастными случаями[65]. И поэтому снова – в начале восьмой книги – рядом с Мейстером возникает его друг Вернер как его дополнение и оппонент, фигура которого «полезна для целого» и облагораживает его «реализм»[66], реализм, в дальнейшем направляющий линию нисхождения романа. Ведь чем больше протагонист занимается спектаклем и чем активнее претендует на публичное признание, тем дальше он от всего этого отходит, становясь на какой-то другой путь. Под конфликтом феодальной и буржуазной инсценировки, под слоем интенциональных поступков и волеизъявлений, маркерами которого служат театральные подмостки и репрезентативное лицо, роман Гёте сплетает сеть из случайностей и латентных регуляций, точку схода которой образуют «таинственные силы башни»[67]. Справедливо указывалось на значение экономических мотивов и на то, что мир «Годов учения» – это мир рынка, который – как об этом говорит Вернер – посредством циркуляции и оборота капитала внедряется в репрезентативные формы публичной сферы; и административные усилия Общества башни в конечном счете направлены не на институции, не на консенсуальное соединение отдельных воль и воспитание моральных личностей, а на регулирование «сил» и индивидов, желаний и циркулирующих потоков товаров и денег, а следовательно, на управление контингентными фактами материальной и экономической жизни[68].
Таким образом, при переходе от «Театрального призвания» к «Годам учения» возникает ряд противопоставлений и оппозиций, затрагивающих ход развития личности Вильгельма Мейстера, его «учение», а равно и аргументацию политического слоя романа. Так, например, целенаправленным действиям протагониста противостоит контингентность множества событий, расстраивающая его жизненный план и тем не менее гарантирующая исполнение многих его желаний (женитьба, благосостояние, признание); и подобно тому как в «экономике» миссионерской системы гернгутеров «незримая рука», «незримый» друг и наставник направляет душу на провиденциальный путь, в миссионерской системе экономики Башни невидимые руки, глаза, агенты и функционеры словно бы подгоняют провидение, исправляющее решения, пробуждающее и направляющее желания, укрощающее страсти, создающее альянсы и устанавливающее стабильные отношения с объектами[69]. При этом «общественное лицо» как маска и апатичный субстрат сингулярных существований контрастирует с индивидом, который именно в своих страстях и интересах, потребностях и желаниях вовлекается в игру политического планирования, и не случайно в финале этого последовательного разоблачения должны оказаться уже не «видимость» и актер, а врач и нагота, «человек без покровов» и «истинный» человек[70]. Тем самым перспектива сдвигается с притязаний репрезентации и ролевой игры на материальный базис, определяющий расчеты и проекты Общества башни. Публичное взаимодействие по модели театра сталкивается с закулисными действиями Башни, которая посредством своих посланцев тайно управляет индивидами и проникает в персональные взаимоотношения внутри социальной коммуникации. Поэтому в конце концов инсценировке и театру противопоставляются письменные формы и аппарат фиксации данных, который используется для организации нового сообщества, хранения информации и ведения его архивов. Уже указывалось на специфическую структуру этого общества, мутировавшего из страховой компании в международный концерн и превратившего отпрыска патрицианской семьи, да еще и с аристократическими амбициями, в «равноправного налогоплательщика»[71]. При этом существенными представляются три момента: во-первых, это как раз дисфункциональные на первый взгляд элементы и контингентные события романа, цепь «ошибок» и «несуразностей», которые влекут за собой ироническую ситуацию развязки и позволяют тому, кто как Саул, «пошел искать ослиц отца своего», в конце концов найти «царство» – «в нашем мире тщетно отстаивать собственную волю»[72]. Во-вторых, тем самым комплекс бессознательных склонностей и взаимосвязей становится предметом политических и нарративных регуляций, обстоятельств, складывающихся в систему за спиной субъектов и определяющих их судьбы. И в-третьих, Башня организуется в совокупную сеть всех случайных событий, в место управляемой контингентности, отвечающее за высочайшую плотность в связях между всеми индивидами, вещами и мотивами, производящее и «репрезентирующее» эти «связи». Во всяком случае благодаря этому всецело земному провидению в конечном счете желания и намерения почти каждого человека подвергаются коррекции, каждому отводится его место, а того, кому не удалось найти места, выпроваживают из этого мира. И именно поэтому Башня становится тем органом, который и есть сам роман и который может теперь поместить «годы учения» Вильгельма Мейстера внутрь себя самого, сохранить в своем архиве и инициировать бесконечно рекурсивное и – как в продолжении «Годов учения» «Годами странствий» – бесконечно уплотняющееся чтение. Поэтому Башня не просто связывает рассеянный в функциональном отношении замысел сюжета романа, скорее она инкорпорирована в саму его структуру[73]. Театр и Башня, репрезентация и архив (а в конечном счете и спектакль, и роман) определяют варианты биографии и различные способы изображения протагониста, и кроме того, они включают в себя различные уровни описания и даже различные поэтики политического, которые формируются, с одной стороны, с помощью модели публичности, персонализма и договорной обоюдности, а с другой – посредством регулирования, контроля и управления материальными, физическими, либидинозными и экономическими движениями. В «Годах странствий» Гёте даже акцентировал это различие и на одном фланге разместил «право», связанное с взаимностью, «долгом» и «отдельными лицами», а на другом – «политическую власть», предметом которой является «пристойное» и «общество»[74]. Тем самым, как представляется, наряду с репрезентативным принципом, наряду с символическим телом политического существа, которое, законодательствуя и устанавливая нормы, диктует хореографию отдельных персон, сложился некий корпус иной плотности и иной консистенции, тело, благодаря силам и действиям которого как будто бы составляется физика общественной жизни.
Эмпирическое государствоведение
Разумеется, нельзя не отметить, что и в естественно-правовых теориях XVII–XVIII веков речь идет отнюдь не только об объединении отдельных воль в государство-личность, о секулярной легитимации политического господства и о репрезентации и ограничении суверенной власти. Уже начиная с Макиавелли создатели учений о политическом благоразумии, и в первую очередь теоретики государственного интереса, стремились к рационализации политики, которая апеллирует к специфическим техникам и знаниям, касающимся установления, укрепления и увеличения государственной власти[75]. Но лишь с XVII столетия конституируется знание, непосредственно связывающее вопрос о строении государства с политической эпистемологией, которая формирует определенный систематический тип рациональности и рассматривает законы, которым подчиняются государственные дела и политические тела, как два аспекта одного и того же поля знания – в надежде, что вслед за прогрессом в математике, физике или медицине могут быть открыты и законы, точно так же движущие человеческими поступками, как те, что руководят движением светил или животных тел[76]. Открытие всеобщих закономерностей в природе – астрономия Коперника, физика Галилея и Ньютона – соотносится с представлением о некоей особенной рациональности политического существа, которая расстается с моделью божественного правления и должна искать свои принципы в себе самой. Это ведет не только к попыткам построения системы, которая должна more geometrico восходить от движений природных вещей к движениям человека и далее к движениям corpus politicum[77]; и не только к тому, что – как в знаменитом введении Гоббса – знание о «Левиафане» описывается как политическая физика и политическая физиология, обещающая найти способ конструирования великого «искусственного человека» по модели естественного[78]. Здесь важным представляется прежде всего сам факт двойного – интенсивного и экстенсивного – развития комплекса политических знаний, в которых речь идет не столько о хорошем или плохом правлении, сколько о своего рода самопознании государства, – например, Монкретьен еще в 1615 году жалуется, что при всем изобилии государству недостает одного, а именно, точного знания о себе самом, а тем самым адекватного представления о своих силах[79]. Заблуждения, иллюзии, предрассудки, суеверия, нестрогие понятия или сугубо приватные мнения не могут не привести не только к ошибочным политическим решениям или к ослаблению монарха, но и к гибели самого политического существа; и если отсутствие метода или невежество порождает величайшие катастрофы, например гражданскую войну, то способ политического познания, который отныне в равной мере апеллирует как к самому человеку, так и к природным вещам, живым существам и материальным благам, ручаясь при этом за корректность наблюдений и выводов, обосновывает то рискованное и критическое знание, которое одно только объясняет предпосылки функционирования государства и судит о возможности его сохранения или распада[80].
Отныне государственное существо превращается в особого рода объект знания, и его гармоническое состояние более не основывается на созерцании самодовлеющего и необходимого мироздания. Напротив, его закономерность и связность можно вывести из динамики меняющихся ситуаций и – как это подразумевает расширение механистических способов познания – систематизировать в полном соответствии с познавательной моделью эмпирического исследования природы. Дискуссии о новоевропейском рациональном и естественном праве разворачиваются на почве политической эпистемологии, которая распознает фигуру когерентного и самодвижущегося порядка лишь за разрозненными единичными феноменами и в закономерной связи между на первый взгляд беспорядочными движениями и вещами. Отсюда, например, апелляция к идее «системы» в астрономии, дающей образец законов изменения и взаимосвязей движения; отсюда и значение концепций «политической анатомии», извлекающей экспериментальный аспект из параллели между body natural и body politic, представляющий собой получение квалифицированного знания с помощью искусства политического препарирования, которое, как и в медицине, исследует пропорции и способы функционирования политического тела прежде всего на ясных, простых и элементарных примерах[81]. И наконец, с этим же связан и вопрос о консистенции человека, о том, каков он «в действительности» и как он в качестве такового может предопределять программу учреждения государства. Если антропологизация политики стала заметна уже начиная с Макиавелли[82], то теперь эмпирически ориентированное государствоведение вращается прежде всего вокруг типичного представителя человеческого рода, который вместе со своими ощущениями и фантазиями, страстями и желаниями и, наконец, в качестве двойной фигуры – как «материал и как конструктор» – включается в расчет политической рациональности. Оно вращается вокруг «человека», который еще не рассматривается ни как моральное существо, ни как политическое животное, ему, скорее, приписывается предшествующая всему этому дисфункциональность, и поэтому требуется некое новое исчисление его социального и политического поведения. Ведь «если бы мотивы человеческих поступков были познаны столь же точно, как отношения величин в геометрических фигурах, то честолюбие и корыстолюбие, чье могущество опирается на ложные представления толпы о праве и несправедливости, оказались бы безоружными, и человеческий род наслаждался бы столь прочным миром, что единственным поводом для борьбы мог бы оказаться лишь недостаток территории из-за постоянного увеличения численности людей»[83]. А в другом месте у Гоббса говорится: «Подобно тому, как в часах или в какой-нибудь другой достаточно сложной машине нельзя узнать, в чем состоит роль каждой детали и колесика, если не разобрать их и не изучить отдельно материал, форму и движение этих деталей, так и при изучении государственного права и гражданских обязанностей необходимо если и не расчленять самое государство, то по крайней мере рассматривать его как бы расчлененным, то есть постараться правильно понять, какова человеческая природа, что делает ее пригодной или непригодной для создания государства и каким образом люди должны объединяться между собой, если они хотят жить вместе. И вот, следуя этому методу, я…»[84]
Политическая антропология
Учение о государстве исходит из аксиоматических предположений о «действительном» человеке, и уже у Гоббса апология persona дополняется методически продуманным протоколом разоблачения, объясняющим те условия и закономерности, в соответствии с которыми затем вымеряется адекватная конфигурация репрезентации и закона. Если государственное существо учреждается в театре ролей и представителей, то государствоведение проникает даже за кулисы, по меньшей мере оно совершает жест, который в «Как если бы» государства-лица фиксирует «Как если бы» его дезинтеграции и, «рассматривая его как бы расчлененным», дополняет сценическую игру репрезентации игрой истины его оснований, вполне в духе эвристической перспективизации пресловутого «естественного состояния»[85]. Будь то у английских философов, французских моралистов или немецких теоретиков естественного права – отныне всякая политическая конструкция занимает определенную позицию в отношении «природы» человека или предполагает ее. И интерпретировалась ли эта природа пессимистически или оптимистически, относилась она ко времени, предшествовавшему зарождению обществ, или понималась как уже социализованная, в любом случае она во многих отношениях сформировала тот новый, далеко идущий «реализм» или «эмпиризм» политической теории, которым пропитана программа теории общественного договора даже у Руссо: «Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоянии какой-либо принцип управления, основанного на законах и надежного, если принимать людей такими, каковы они, а законы – такими, какими они могут быть»[86].
Поэтому, пожалуй, не стоит переоценивать тогдашние дискуссии об онтологии естественного состояния, о многообразии понятий природы и о той или иной естественности естественного человека. Так, например, у Пуфендорфа естественное право подразумевает тщательное исследование «природы человека, его ситуации и его склонностей»; но одновременно именно естественное право оказывается у него и наукой, которая может рассматривать человека только таким, «каким он является в своем сегодняшнем испорченном состоянии, а именно как создание, наполненное разнообразными дурными желаниями»[87]. Поэтому в апелляции к какой бы то ни было «природе» человека осуществляется прежде всего определенная десубстанциализация человеческого, проводится дифференциация между несомненными моральными данностями и социальными детерминантами, дифференциация, отменяющая устоявшуюся предпосылку политического животного и утверждающая отношение политического порядка и поведенческих модусов в качестве особого рода объекта знания. Сколь универсальными ни казались бы естественно- и рационально-правовые обоснования, сколь врожденными и «вписанными в сердце» ни казались бы естественное право и разум, они тем не менее требуют исследования такого человека, который в настоящее время демонстрирует нестабильное, изменчивое и даже враждебное поведение и одновременно с любой постановкой вопроса об учреждении социальности принуждает обратиться к антропологическому знанию.
Итак, как представляется, таковы основные черты логики и перспективы просвещенческого государствоведения, исходя из которых обретает свое место и свою основополагающую систематизацию вопрос о «действительном человеке». При этом данный предмет уже не мыслится субстанциально, теперь это человек в контексте актуальных поведенческих модусов и связей, у которого любое определение и любое отношение к самому себе вызывает проблему многочисленных и ненадежных корреляций, как это можно проследить на примере растущего интереса к концепциям «самосохранения» и «себялюбия»[88]. Поэтому в самую глубину его существа вписана специфическая неопределенность, отчетливо проявляющаяся лишь в социальной коммуникации и становящаяся детерминирующим фактором в сфере политического знания. И в конечном счете это наводит на мысль, что отныне всякая антропология также должна рассматриваться из перспективы антропологии политической или прагматической[89]. Таким образом, систематизация политического знания и генезис систематически понимаемой антропологической фигуры оказываются неразрывно взаимосвязанными. С конца XVII столетия действительность человека и конъюнктура антропологического вопроса занимают место отсутствующей теории общества и укореняются в просвещенческих социально-политических представлениях[90], которые в итоге в конце XVIII века изменяются на основе концепции «тройственного» человека и его корреляций: ноуменального или «метафизического» человека, который не дан в качестве объекта в созерцании; «естественного», который в своего рода контрарной фикции экстраполируется на начало вещей; и человека, искусственно сделанного или «симулированного», который конституируется как некая переменная и момент неопределенности в непрозрачной среде законов своего социального движения[91].
Механика страстей
Итак, политическая антропология основывается на существовании внеморальных поведенческих типов, на перечне закономерностей при наличии контингентных взаимосвязей и в сфере приблизительных социальных данных. Она обращается к вопросу о депарадоксализации элементарных, антагонистических отношений, которые зафиксированы еще в понятии «недоброжелательной общительности» и которые в конечном счете связаны с проблемой учреждения государства даже для «народа, который состоял бы из дьяволов»[92]. Именно в силу того, что человек заключает в себе источник беспорядка, его рассматривают как носителя социального порядка. Его пребывание в обществе вовсе не является чем-то необходимым, оно случайно, и, заостряя тезис, можно было бы сказать: человек отнюдь не по природе своей является политическим живым существом, реализующим себя в государстве, напротив, природу государства здесь создает политическое знание, которое, в свою очередь, прибретает антропологическую направленность в вопросе о действительном человеке. Еще у Гоббса в основании заключения первичного договора лежит такого рода теоретическое усилие, ведь первый пакт мотивируется тем обстоятельством, что агрессивные стремления человека могут уравновешивать «страх смерти» и «желание вещей, необходимых для хорошей жизни», и что они могут быть направлены к соединению несоединимого[93]. Основанием для этого является механика страстей, функционирующая по модели галилеевской механики физических тел. Все аффекты в целом представляют собой движения appetite и aversion[94], aditio и fuga[95], общее стремление которых заключается в «самосохранении», и будучи однажды вызванным к жизни, оно не прекращает своего равномерного течения, причем «с той же природной необходимостью, с какой камень падает на землю». А эта природная необходимость, в свою очередь, получает свой импульс от двигателя всех человеческих движений, от сердца и кровообращения, свободный ход или задержка которого мотивируют чувство удовольствия и неудовольствия[96]. Тем самым бесконечность движения инертных тел, как его описывают механические законы сохранения, одновременно позволяет сформулировать закон безграничности человеческих стремлений[97]; и уже детально демонстрировалось, как, основываясь на этом новом, доступном антропологизации уровне описания, взаимная игра страстей и аффектов обращается к концепциям регуляции, которые уже не могут сводиться исключительно к подчинению, принуждению и репрессии или к голой инструментализации эгоистичных страстей. Поэтому знаменитый подзаголовок басни Мандевиля – «Private vices, publick benefits»[98] – можно рассматривать как формулу того, каким образом страсти взаимно нейтрализуют друг друга, как они рационализуются в тех или иных интересах или как в самом понятии «интереса», возникшем из государственных резонов, оформляется разновидность продуктивного и поддающегося исчислению эгоизма[99]. Аффекты, страсти и интересы взаимно уравновешивают друг друга, и эту функциональную трансформацию можно продемонстрировать на примере древней троицы грехов, superbia, invidia и avaritia[100], которая некогда воспламенила человеческое сердце и которая в том же сочетании вновь возникает у Мандевиля, Пуфендорфа и даже у Канта[101]: в осознании того факта, что действительно продуктивными являются не умеренные, а в первую очередь наиболее сильные склонности; что, например, скупость других кажется кому-либо пороком, прежде всего с его собственной порочной точки зрения; что она компенсирует противоположную страсть, расточительство, или же сама обезвреживается в каких-то других аффектах; что таким образом скупость – как и расточительство – в своих различных комбинациях и в силу тех или иных своих эффектов способствует кругообороту и распределению богатств; и что теперь хороший политик может исходить не из добродетелей и усредненных качеств, а только из случаев предельного проявления страстей, и он рассматривает эти страсти, подобно своего рода составным частям, в их смеси, в их воздействии друг на друга, – как они, «смешанные в правильной пропорции, составят отличный напиток, который нравится людям самого взыскательного вкуса»[102]. Стало быть, то, что само по себе может быть неприемлемым, скандальным или вредным для отдельных людей, лишь с точки зрения целого порождает цепь причин и следствий, в которых результаты действий того или иного типа уже не могут оцениваться согласно одному лишь критерию их ограниченных мотивов, целей и намерений вне ситуационного контекста[103]. При этом речь идет не столько о переоценке религиозных, моральных или правовых ограничений, сколько о некоем новом субъекте страстей и интересов, трансцендирующем границы правового субъекта; речь идет о разметке нового познавательного поля, о тесном переплетении взаимозависимостей, в котором образ действий целого более не измеряется действиями индивидов, о переплетении, в котором каждый человек в отдельности ведет себя лабильно и неопределенно, но поведение людей, взятых вместе, оказывается предсказуемым и поддается расчету, а потому может рассматриваться как проявление закономерностей по эту сторону правовых норм и моральных законов.
Адам Смит и invisible hand
Известно, что начиная с XVIII столетия такого рода изменение в умонастроениях не только стало общим местом в моральной философии, – например, в рассуждениях о «гармонии интересов»[104], – но и благодаря концепциям «невидимой руки» или «хитрости разума» получило систематическое одобрение в рамках телеологии, выводящей из взаимного противодействия объектов некую внешнюю для них самих цель[105]. На примере семантики invisible hand Смита удобнее всего проследить, из каких элементов складывается подобная взаимозависимость и подобная закономерность в рамках установленных законов, как она проникает в поле политической эпистемологии и со все большей остротой дает о себе знать в антропологической проблематике. Ведь прежде чем «невидимая рука» из «Богатства народов» (1776) предстанет как общее место для того движения, которое обращает собственный интерес и стремление к прибыли в сторону «всеобщего блага» и обнаруживает действенность экономической операции в бессознательной эффективности экономической рациональности вообще[106], это выражение появляется в совершенно ином контексте, который, однако, весьма примечателен. В своей написанной, по всей вероятности, приблизительно в 1758 году «Истории астрономии» Смит говорит о неспособности политеистических религий сводить к регулярностям нерегулярные природные события, в которых именно поэтому обнаруживает себя чудотворная сила древних богов. Если естественным образом «огонь горит, а вода обновляется, восстанавливая запасы», если «тяжелые тела стремятся лететь ввысь», то такие экстраординарные явления, как молния, гром или буря, требуют объяснения, в качестве которого у древних в конце концов может выступать только «невидимая рука» Юпитера[107]. Стало быть, невидимая рука здесь представляет собой факт космологии, и к тому же такой, который отмечает в цепи событий нечто нерегулярное и сверхъестественное, являя собой кажущуюся противоположность закономерному и регулярному действию «невидимой руки» в экономической теории Смита. Впрочем, констелляция такого рода позволяет вспомнить о рассуждениях, в которых столетием раньше взаимосвязь природных вещей сравнивалась со скрытым действием «незримой руки», с космологическим действием, подобно работе часового механизма, прячущимся за голой видимостью циферблата и стрелок[108]. К тому же и сам Смит еще раз использовал это выражение в центральном пассаже своей «Теории нравственных чувств» (1759), где «незримая рука» отсылает уже не к простому незнанию, – как в космологии древних, – а к осуществлению необходимого и полезного обмана. Это место также достаточно известно: пусть, пишет Смит, «гордый и бесчувственный землевладелец» оглядывает свои обширные владения и в своем воображении пожирает покрывающие их богатые жатвы, ни на одну минуту не помышляя при этом о «потребностях своих ближних»; но «вместимость его желудка не находится в соответствии с безмерной величиной его желаний» и выступает в качестве непреодолимой физической или физиологической границы. Выходит, он поневоле должен как-то распределять остаток урожая и именно в силу своего стремления ко все большей «роскоши», к «безделушкам и излишним вещам» удовлетворять потребности других. Итак, вопреки или как раз благодаря своему «эгоизму и алчности» богатые делятся своим богатством с бедными: «По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их принимать участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и умножению человеческого рода»[109].


