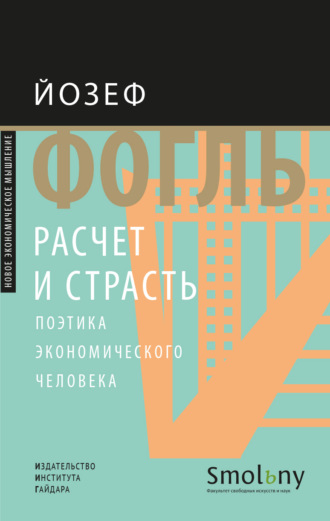
Йозеф Фогль
Расчет и страсть. Поэтика экономического человека
Глава 1. Тела политики
1. Государство-театр
Театральное призвание
Театральные призвания являются одновременно и политическими, а эти последние, соответственно, химерическими. Так, стремление Вильгельма Мейстера к сцене, его посвящение в актеры кукольного театра, в театрала и, наконец, в исполнителя роли Гамлета не просто сводит воедино освободительную идею, изображение публичной сферы и индивида, желающего достичь гармонического совершенства своей натуры. Скорее сам театр включает в себя модель общества, на несколько мгновений становящегося лучше и благороднее в ходе игры на сцене и игры после игры, праздника за и между кулисами[7]. В романе Гёте мотив и педагогический план создания национального театра оказываются в тени театральной концепции, реализующей ряд социально-функциональных определений и расширяющей пространство сцены до всемирного театра; театральный эксперимент Мейстера оказывается образцовой площадкой для обсуждения вопросов собственности и договорных отношений, конфликта между феодальной и буржуазной формами социализации. Наряду с очевидной программой образования, всеобъемлющего «формирования личности», этот театр претендует на создание пространства, в котором индивиды не только существуют, но и «показывают себя», пространства, в которое они переносятся в качестве представителей самих себя и в котором они – как «лица общественные» – ищут сколь фиктивное, столь и нормативное основание своего социального общения[8]. В нем все более настоятельным становится обращение к маске, апатичному субстрату, который – и это своего рода актерский парадокс – проникает в собственное бытие индивидов и обязывает их «играть естественнее, не переставая притворствовать»[9]. При этом речь отнюдь не идет о какой-то перфекционистской иронии, когда – в одиннадцатой главе пятой книги – Вильгельм Мейстер в роли Гамлета сталкивает обе стороны, чужую роль и свое собственное искреннейшее возбуждение, играя, выпадает из роли и тем самым только еще более уверенно ею овладевает. Поскольку он не уверен в том, видит ли он маски или лица, показывает ли он сам маску или лицо, то при появлении призрака – чей незнакомый голос, искаженный тем, что раздается из-под «забрала», звучит как все более знакомый, – он испытывает противоречивые чувства, влекущие его в противоположных направлениях; теперь он оказывается одновременно и на сцене, и перед ней: «Пока длился рассказ призрака, он так часто менял место, казался таким неуверенным и смущенным, внимательным и рассеянным, что своей игрой вызвал всеобщее восхищение, как призрак – всеобщий ужас»[10]. Таким образом, преодолевая на сцене свое бюргерское «смущение» и, в свою очередь, вновь испытывая его уже в качестве исполнителя роли, говоря одновременно и своим собственным, и чужим голосом, представляя себя здесь и сейчас, а в роли Гамлета неожиданно и последовательно приходя к тому, что он самого себя инсценирует, Вильгельм Мейстер следует поэтике спектакля, в которой сцена и игра одновременно демонстрируют и двойное основание, на котором выстраиваются бюргерские идентичности и их репрезентативная взаимосвязь, подчиненные императиву – казаться тем, что мы есть, и стать тем, чем мы кажемся.
Лицо
Однако речь тут отнюдь не только о двусмысленности понятия «образованной личности», уравнивающей театральную постановку и общественную репрезентацию и утверждающей в литературной известности эрзац-форму политической публичности[11]. Скорее поэтика спектакля сама уже включает в себя поэтику социального и политического пространства, и наоборот, эта политическая сфера организована непосредственно сценически. Составившие публику приватные люди, которым твердят, что они рассмотрят на сцене свое собственное дело, вызывают тем самым в памяти политико-правовую программу, в ядро которой вписан сам театр. Ведь не случайно повторное открытие театрального аспекта в понятии «лица» было делом просвещенческой политики и просвещенческого права, ищущего основание своей легитимности в себе самом и желающего в каждой своей норме хранить память о моменте ее принятия. Начиная с Альтузия и Гроция, Гоббса и Пуфендорфа все теории репрезентации политической власти непременно ориентируются на апологию «общественного лица» (persona publica), которое через средневековые субстанциалистские модификации восходит к игре масок римской persona – лица́ как в юридическом, так и театральном смысле[12]. Это лицо (persona) отнюдь не является только фундаментальным понятием политической теории, происходящим из римского права, скорее оно уже там объединяет в себе моменты представительства и ролевой игры, социальной функции и инсценировки и позволяет старой юридической форме понятия лица – в persona alicuius representare[13] – выглядеть игрой с точными формулами инаковости[14]. Исходя из этого, лицо «обозначает наряд или внешний вид человека, представляемого на сцене, а иногда специально ту часть этого наряда, которая скрывает лицо, например маску. С театральных подмостков это название было перенесено на всякого, представляющего речь или действие как в судилищах, так и в театрах. Личность, таким образом, есть то же самое, что действующее лицо как на сцене, так и в жизненном обиходе, а олицетворять – значит действовать или представлять себя или другого»[15].
Представительство
Тем самым описан имеющий разностороннее – социальное, политическое, правовое – применение принцип репрезентации, который может быть распространен на самые разные объекты, отношения и сущности, как на неодушевленные вещи и фантазии, так и на Бога, партнеров по договору, несовершеннолетних, слабоумных или на множество людей; принцип, способный наделить одного-единственного человека бесчисленным количеством различных функций или дать многим единую репрезентацию и именно поэтому оказывающийся эффективной концепцией при переходе от иерархически организованных к функционально дифференцированным обществам[16]. В соответствии с ним каждый человек состоит из множества лиц и, более того, причастен к тому лицу, которым он не является и быть не может, которое делает его кем-то другим, связывает со всеми и позволяет выглядеть элементом некоего целого, например, государства, рассматриваемого как лицо. Политическое, присутствующее в лице, составляет его буквально «замещающий», репрезентативный характер, который соединяет маскировку и представительство, может выглядеть как «платье» поверх «платья» и потому, однако, всегда оперирует в опасной области между действительно представляющей и всего лишь транспонирующей репрезентацией[17]. Именно у Пуфендорфа, который, как и Гоббс, начинает свою теорию государства с теории лица, выявляется это petitio principii[18] и апелляция к некоему критерию внутри персональной репрезентации. Ведь, с одной стороны, «персональное» представляет собой ту инстанцию, которая из разрозненных тел, из «физических автономий» создает моральные сущности и посредством процедур приписывания, представительства и волеизъявления способна производить «моральные вещи», «моральные лица», тем самым утверждая авторитет «моральных уз» для политических сообществ. В соответствии с этим и Пуфендорф перечисляет различные варианты персональной репрезентации: представителей в узком смысле, таких, как посланники и опекуны, собранные вместе лица, из отдельных воль создающие общую волю и тем самым «моральное тело», то лицо, которым мы являемся в качестве разумного субъекта, то лицо, которое нам предписано другими, которое мы получаем лишь случайным и временным образом или которое мы сами учреждаем для себя по «доброй воле» и собственному произволу. Но, с другой стороны, это видовое разнообразие персональных инстанций отнюдь не автоматически находит ту внутреннюю границу, которая со всей надежностью отделяет поведение «истинных моральных лиц» от явного и «своенравного чудачества», от сумасбродства вроде того, что двигало Калигулой, однажды назначившим жеребца сенатором и репрезентантом города Рима. Стало быть, в моральном лице может таиться гистрион, политическая репрезентация чревата фарсом; и не в последнюю очередь это связано с тем, что сущность лица в некотором роде состоит в отсутствии сущности, что игра, в которую играет лицо, заключается в том, «что оно с изрядной ловкостью копирует внешний облик, / мимику и речь какого-либо другого истинного и серьезного лица, / как будто и в остальном весь его репертуар состоит в одном только создании иллюзий, / и то, что такое сокрытое личиной лицо делает или говорит, не влечет за собой никаких моральных последствий»[19]. Тем самым, с одной стороны, кажется, что политика ограничена и детерминирована радиусом действия морального и юридического лица, а с другой – что она лишается опоры для собственного обоснования, и этот сколь основополагающий, столь и проблематичный персонализм естественно- и рационально-правовых концепций, связывающий в «государстве-лице» трансляцию политической власти с архитектурой общественного договора[20], выводит социальный закон на подмостки, которые должны определять его правовое основание и на которых этот закон вновь и вновь разыгрывает драму своего обоснования.
Общественный договор и театр
Итак, если лицо – это тот, кому приписываются – «поистине или посредством фикции»[21] – слова и действия людей, то оно само подчинено закону театральной инсценировки и организации сценического пространства. И когда новоевропейское естественное право присягает первому принципу и во имя этого принципа требует прозрачности всех правовых норм, то мы должны понимать, что его исток и его критерий восходят к идее перформанса, артикулирующейся в театральном характере первичного учредительного договора. Во всяком случае сложная система представительств, масок и ролей, определяющая идентичность лица и закономерность целого как отражение его собственного происхождения, функционирует именно так, как ее описывает Гоббс в кульминационном пункте своего учения: «Я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия»[22]. Здесь индивиды становятся «authors», а те, в свою очередь, «persons», здесь «actors» одновременно и действуют, совершают поступки и исполняют роли, здесь устанавливаются пропорции «естественных» и «искусственных» лиц. Поскольку всякого индивида необходимо представляет другой индивид, то Третий, государство, становится представителем каждого, а его действия отныне следует рассматривать так, словно бы их совершали мы сами. Из множества индивидов создается или рождается[23] «лицо», а вместе с ним, в свою очередь, «Как если бы» репрезентации. Стало быть, в этом «Как если бы» закона отдельный человек – это другой. Он становится гражданином и субъектом закона только как представитель других, или, наоборот, наблюдая и представляя, он познает в других свою волю. В акте первого соглашения один отражается в другом, и в результате этой взаимной субституции и подчинения одним и тем же интересам утверждается общность, которая отныне может рассматриваться как tertium и основа прочной конституции и всеобщего законодательства, как бы ни выглядело мутное и анархическое естественное состояние, с одной стороны, а сильный Третий – с другой. В этой прозрачности, в этом движении вдоль восходящей линии политическая репрезентация определяется как результат и преодоление своего рода стадии зеркала. Благодаря миметической рефлексии – я знаю, что ты знаешь, что я знаю… – ego и alter ego замещают друг друга и из своих зеркальных отражений дистиллируют договорной субстрат, дающий осадок первичного, или сверхдоговора, то есть государства, и выкраивает из простого множества людей одну-единственную persona ficta, лицо, в котором каждый тогда кажется тем, что он есть, когда он является другим и причастен к общности всех. Еще Цицерон распознал в судебном ораторе носителя трех ролей и тем самым увидел здесь смещенное в себе самом и фиктивное авторство (полномочность); так и в гоббсовской учредительной сцене отдельный человек является «автором» и «актером» театра, в котором он сам себя репрезентирует, будучи облеченным в маски трех участников судебного процесса – в качестве эго, противника и судьи[24]. Таким образом, в строгом смысле это государство-лицо представляет собой прозопопею, fictio personae, как перевел – в свою очередь ссылаясь на Цицерона – этот греческий термин Квинтилиан. Прозопопея наделяет отсутствующее и безликое маской или обликом, и она есть не что иное, как изобретение, измышление лица, конституирующегося исключительно в «Как если бы» своих слов и акций[25].
Persona ficta у Гоббса
Между тем именно здесь обнаруживается как риторическая плотность, так и хрупкая двойственность репрезентативного акта. Ведь он соотносит многих с одной-единственной инстанцией говорения и действия; он понимается как представительство, отсылающее к моменту уполномочивания; и он создает фигуру, отменяющую это уполномочивание ровно в той мере, в какой она одновременно конституирует границу, за которую не может отступить ни один дальнейший акт и ни одно дальнейшее слово: отныне тот, кто действует согласно закону, всегда действует как другой самого себя. Стало быть, в начале этой учредительной сцены находится сама себя представляющая и сама себя отменяющая полномочность, проявление которой достигает кульминации в самоуничтожении и тем самым в строгом смысле представляет собой уполномочивание фикции, то есть отныне она трактуется так, как если бы кто-то действовал. Таким образом, именно у Гоббса прозопопея государства выступает как разрешение апоретической констелляции, сопутствующей естественно-правовым учредительным фигурам, оказывается решением, особенность которого состоит в том, что в акте решения оно само создает для себя критерий: посредством первой инсценировки лица, которое с ретроспективной точки зрения уже всегда здесь присутствовало; посредством установления референции, которая сама впервые порождает означаемое, – выкроенную из простого множества многих личность, – и посредством такой фигурации установления, в которой устанавливающее неизбежно дефигурируется и благодаря которой устанавливающий акт осуществляется в силу того, что он безвозвратно исчезает в установленной фигуре[26].

Рис. 1. Первоначальная композиция титульного листа «Левиафана» Гоббса (1651), в: Reinhard Brandt, «Das Titelblatt des Leviathan», in: Leviathan. Zeitschrift fur Sozialwissenschaft 15, 1987, 164
Нельзя не заметить, что фигурация такого рода формирует и ту фигуру, которая изображена на знаменитой гравюре титульного листа «Левиафана» Гоббса. Ведь «искусственный человек» и Макрос-антропос на верхней половине эмблемы, сжимающий в руках инсигнии – меч и епископский жезл – и возвышающийся над кругом умиротворенной страны как воплощение суверенной власти, не только противостоит в качестве символической фигуры «реалистичному» изображению города и ландшафта; он не только собирает в своем – политическом – теле лица, которые в раскинувшемся перед ним мире просто разбросаны по различным местам и заняты различными видами деятельности (рис. 1)[27]. Скорее он преподносит себя в качестве фигурации, которая в полном соответствии с гоббсовской теорией лица позволяет тому, что конституирует corpus politicum, раствориться и исчезнуть в конституируемом. Тело этого властелина, «подобного которому нет на земле» – как он именуется в латинском эпиграфе, взятом из «Книги Иова», – складывается и формируется из собрания многих, из собрания, ориентированного в направлении головы Левиафана, но сами эти собранные в единство люди исчезают, когда собрание достигает этой увенчанной короной головы; «естественные» лица создают «фиктивное» лицо в прозрачном строении тела, но именно эта фикция стирается в натурализированной непрозрачности черт лица[28]; а эта голова, в свою очередь, смотрит на зрителя, но собранные в ней многие отвернулись от зрителя и безлики. У них есть лицо и голос, только благодаря ему и, однако, именно благодаря ему они остаются слепыми и немыми. Персона, замечает Гоббс в латинском приложении к «Левиафану», это также и просто-напросто лицо, обращенное к другому[29]; и соответственно этому зритель встречает в лице и направленном на него взгляде Левиафана – в этой последней версии гравюры: в более ранней его взгляд был направлен на ландшафт внизу – лицо (persona) как таковое, fictio personae и прозопопею всех отвернувшихся и безликих. Поэтому было бы не совсем правильно понимать эту персонификацию как всего лишь «imago», как «материальный заменитель репрезентированного». С конца Средних веков в понятии repraesentatio аспекты отображения или уподобления отходят на второй план, уступая место аспекту представительства; персонификацию государства у Гоббса также нельзя автоматически относить к традиции изображения властителей (на монетах, медалях и т. д.), в которой «effiges»[30] еще означают репрезентацию, а репрезентация, в свою очередь, означает «image»[31][32]. То, что демонстрирует эта фигура, не является ни отображением, ни копией или визуализацией какого-либо принципа. Скорее она представляет собой отображение только в той мере, в какой выявляет нарушенную логику отображания. Она – не отображение, но образ представительной репрезентации, которая дефигурирует фигурирующих в фигуре. И даже это происходит еще совсем не так, как в составных позднеренессансных и барочных портретах, о которых заставляет вспомнить эмблема с титульного листа трактата Гоббса[33]: если, к примеру, у Арчимбольдо черты лица портретируемого подобно картине-загадке материализуются в их предметных элементах (таков, например, портрет Рудольфа II, сложенный из осенних овощей и фруктов), то конституирующие компоненты «Левиафана» в чертах его лица и посредством них как раз дематериализуются. Стало быть, в этом пункте совпадают персональная репрезентация, учредительная сцена и фронтиспис «Левиафана»: в изображении авторизации, в котором одновременно осуществляется демонстрация ее самоустранения, и в фигуре, которая в качестве политического тела одновременно скрывает элементы своего строения.
Таким образом, при всей монструозности и образной чрезмерности мифического Левиафана государство и суверен – «смертный Бог» – оказываются здесь своего рода театральным трюком, и именно спектакль, гоббсовская теория общественного договора, встраивает в качестве мифического основания внутрь закона, внутрь Левиафана. Всякий договор апеллирует к некоему первому договору, а тот – к театральной постановке, которая осуществляет обратный перевод исторического начала вещей в изначальное тождество и в конечном счете должна вновь обнаруживать и обнаруживает его в каждом деле, в каждый момент осуществления права. Вводя государство-лицо, естественно-правовая теория общественного договора создает своего рода «первичную сцену», конструирует подмостки, на которых размещаются стабильные представительства и репрезентации и на которых в прогрессирующей инволюции смешиваются время осуществления права и время его учреждения[34]. Это фигуры некоего зеркального диспозитива, благодаря которому первичная сцена репрезентации внедряется в мифологию современной политики: во-первых, обособленные лица, встречающиеся друг с другом как равные, заменяющие и представляющие друг друга, обнаруживают и обеспечивают свою общность в прозрачных узах договоров; а во-вторых, учреждение фигуры, persona ficta государства, каковое одновременно изображает и дефигурирует акт своего введения и именно в силу этого становится body politic, искусственным человеком и тем политическим телом, которое оно само репрезентирует.
Учредительный театр у Руссо
Итак, контуры этой новоевропейской политики представлены в треугольнике, образованном юридическим персонализмом, теорией общественного договора и прозопопеей государства, поэтому следует ожидать, что историческое развитие этого запутанного клубка из театра, политики и права определяется как эффективной фикцией политического тела, так и структурой его радикальной внутренней непрочности. А именно: если институция закона непосредственно театрализуется и – наоборот – если этот театр становится истоком политического, то спектакль, сами театральные подмостки могут, в свою очередь, показаться лишь слабыми, несовершенными и рискованными, во всяком случае во многих отношениях уязвимыми для критики. С этой точки зрения предпринятая Руссо радикализация общественного договора вполне согласуется с его же критикой института театра. Ведь и у Руссо речь также идет о создании некоего «общественного лица», «образующегося из ассоциации всех», составляющего «политическое тело» и именующегося «государством»; рефлексия Руссо также обращена к той границе, на которой в фигуре «государства-лица» осуществляется дефигурация его учреждения[35]. Если репрезентация оправдана только тем, что она каждым своим актом одновременно реанимирует свой собственный закон, а также устанавливает и отменяет свое «Как если бы», то театр представляет собой всего лишь убыточное и разрушительное удвоение, в котором репрезентируемое всегда отсутствует, а маска является только внешней оболочкой и, стало быть, уничтожает цель, объединяющую людей в собрание и превращающую это собрание в манифестацию общего. «В театр идут, – пишет Руссо в письме д’Аламберу, – чтобы провести время вместе, но как раз там-то и проводят время врозь: там забывают друзей, соседей, близких, для того чтоб увлечься выдумками, оплакивать несчастия мертвых или осмеивать живых»[36]. Противоборство своего и чужого, присутствия и отсутствия составляет закон репрезентации; и если в театре, как пишет Руссо, мы поэтому всегда видим только иных существ, «нежели мы сами», если спектакль неизбежно связан с искажением пропорций и знает только преувеличения и преуменьшения, если он всегда лишь удаляет от нас все в нем представляемое[37], то репрезентация как закон может сохраняться только благодаря ее перманентной ревизии: закон репрезентации должен корректироваться репрезентацией как законом. Здесь перед нами истинный и единственный театр, вновь и вновь инсценирующий внутри политического тела первую ассоциацию и первичный договор. Поскольку сообщество не может передавать кому-либо свою волю, то есть свой суверенитет, не отказавшись от себя самого, то каждая репрезентация должна отменять себя в пользу своего собственного истока, аннулироваться перед лицом собравшихся вместе индивидов. Собравшийся народ сам представляет себя, упраздняя всякое представительство, и – как говорится в «Общественном договоре» – «там, где находится представляемый, нет более представителей»[38]. Фигура истинной республики и легитимность закона соразмерны способности актуализировать их собственную первичную сцену. Здесь сливаются воедино учредительное время и время действия; здесь индивиды становятся гражданами именно благодаря тому, что они не изображают никаких других лиц и не играют никаких других ролей, выступая только в качестве тех, кто они суть; и в этом случае основанием закона – парадоксальным образом – оказывается театральный партер: «Как! Значит, в республике вовсе не нужны зрелища? Напротив, они там очень нужны. В республиках они родились, на лоне их они процветают во всем своем праздничном блеске»[39]. Республика и ее закон отвергают любой театр, потому что они сами суть не что иное, как театр, расширяющийся до размеров собрания, «публичного празднества» на «свежем воздухе и под открытым небом», а стало быть, до театра той первой встречи, когда она становится прозрачной для себя самой, когда никто не представляет кого-то другого, а вся общность в целом представляет каждого: как на первых собраниях возле «чистой, хрустальной воды источников», о которых говорит Руссо в «Опыте о происхождении языков»; как на игрищах и празднествах лакедемонян или в воспоминании о «незатейливом зрелище» в Женеве, на котором военные и гражданские, господа и слуги как будто бы охвачены «всеобщим умилением» своей общностью; или на празднике сбора винограда в Кларане, когда сама природа сдвигает кулисы и солнце поднимает ввысь утреннюю дымку, «словно театральный занавес»[40]. В любом случае это театр, располагающийся на границе институции и ее учреждения, представляющий собой длительный процесс и запечатлевающий как «непрерывное событие наличия»[41], так и постоянный отказ от репрезентации, метатеатр, ничего не изображающий и в этом ничто инсценирующий лишь свою театральность, свою репрезентацию. Созерцающая игра и изображающее наблюдение: «Но что же послужит сюжетом для этих зрелищ? Что будут там показывать? Если хотите – ничего. В условиях свободы, где ни соберется толпа, всюду царит радость жизни. Воткните посреди людной площади украшенный цветами шест, соберите вокруг него народ – вот вам и празднество. Или еще лучше: вовлеките зрителей в зрелище; сделайте их самих актерами, устройте так, чтобы каждый узнавал и любил себя в других и чтоб все сплотились от этого еще тесней»[42]. Структурное, позитивное ничто этого представления и представительства есть не что иное, как репрезентация самой репрезентации, чистая театральность. Таким образом, в теориях общественного договора, как у Гоббса и Пуфендорфа, так и у Руссо, прозопопея государства, воплощенный в государстве-лице спектакль – театр репрезентаций и лиц, который и есть сам этот договор, этот протодоговор, – преодолевает и разрешает апорию закона, апорию, присущую артикуляции самого себя и своего истока и состоящую в конечном счете в том, что некто говорит и действует «от чьего-либо имени», будучи при этом не более чем чистым и лишенным содержания перформансом этого имени[43].
Кант и «Как если бы»
Итак, политическое тело конституируется в театральном мгновении, удваивающем друг в друге движения репрезентанта и репрезентируемого, зрителя и актера. Уже указывалось на сомнительный логический – а не только исторический – статус первичного договора[44]; и если невозможно зафиксировать реальность учредительной сцены и первого контракта в истории, то, разумеется, нет и никаких оснований предполагать, что их инаугурация еще только предстоит в будущем. При этом нет ни нужды, ни возможности предполагать акт заключения договора в качестве факта: в рассуждениях такого рода Кант не только возвращается к театральному ядру естественно-правовых теорий репрезентации, но и одновременно отделяет друг от друга зрителей и актеров, закон и историю, инициируя радикальную реорганизацию театра репрезентации. И у Канта речь также идет прежде всего о некоем первоначальном контракте, «на котором только и можно основать гражданское, стало быть чисто правовое, устройство и установить общность»[45]; и у него также говорится о представительстве и о лице, превращающих одного индивида в другого и в непрерывном отражении гарантирующих форму закона как чего-то единственно законосообразного; и наконец, здесь также присутствуют маска и чистая театральность, «Как если бы», возвышающие закон до уровня всеобщего катарсиса и превращающие действующее лицо в своего собственного зрителя. Но кантовское разрешение проблем естественно-правовой теории общественного договора известно. А именно: если каждый законодатель обязан издавать свои законы так, «чтобы они могли исходить от объединенной воли целого народа», то и на каждого индивида, «поскольку он желает быть гражданином», следует смотреть так, «как если бы он наряду с другими дал свое согласие на такую волю»[46]. Поэтому первоначальный договор представляет собой не факт феноменального мира, а «всего лишь идею разума», обладающую чисто практической реальностью, и всякую серьезную рефлексию по поводу его исторически датируемого возникновения следует считать бесцельным и опасным для государства «умничаньем»[47]. Закон и история не совпадают нигде и никогда, духовное тело государства никак не датировано и не имеет никакого реального начала. Но теперь именно этот закон и это тело оказываются тем, что в смелом скрещении генетического и парагматического времени понимается как неустранимая доисторичность, предшествующая эмпирическому миру и отделяющая вопрос о правовом основании от вопроса о возникновении государства. В качестве «пробного камня» правомерности «Как если бы» закона осуществляет внутри репрезентации своего рода асимметричный сдвиг. Закон отрывается от той почвы, которая обусловливает его историко-патологическую запутанность, и если в ноуменальном отношении каждый индивид всегда уже совершал те или иные поступки, то в феноменальном отношении он никогда не будет реально действовать. Поэтому «репрезентативная система» становится единственным средством для создания идеальной республики; субъектом этой системы является лицо или «homo noumenon»[48], но ее первичная сцена представляет собой не более чем фикцию. Она представляет собой фикцию по меньшей мере в том смысле, в каком ее, оглядываясь на понятие fictio в римском преторианском праве, описывал Файхингер – как наступление последствий, причина или предпосылка которых рассматривается как наличествующая или появившаяся, даже если она не наличествует или не появилась[49]. Здесь важно прежде всего следующее: состоявшийся акт заменяется неким пассивным актом, а там, где история и закон, эмпирическое и репрезентативное тела, как кажется, действительно сталкиваются друг с другом, действие будет не более чем зна́ком, тогда как участие – в первую очередь наблюдением.
Революция, энтузиазм, зрители
Таков учредительный акт Французской революции. Ее значение, согласно Канту, состоит отнюдь не просто в том, что совершаются великие деяния или злодеяния, или в том, что «как по мановению, великолепные древние государства исчезают и на их месте возникают, словно из под земли, другие»[50]; и, вероятно, революционная политика в целом подвержена губительной путанице и трансцендентальной иллюзии, принимая референт практически-спекулятивного тезиса – идею республиканского договора – за предмет созерцания в историческом мире. Кант подчеркивает: не сам переворот, не преобразование великого в ничтожное, и наоборот, составляет ее особенное значение; не успех или неудача этой «революции духовно богатого народа» подтверждает законосообразность учреждения, сколь бы состоятельным оно ни оказалось. Напротив, закон и история встречаются только в «образе мышления зрителей», в образе мышления, который «открыто проявляет себя в этой игре великих преобразований» и который один только способен оправдать оптимизм в отношении учреждения того, что не может быть учреждено. Если на театральных подмостках у актеров интерес чистого морального разума и апелляция к идее гражданского контракта всегда перемешаны с эмпирическими причинами, страстями и эгоистичными интересами, если там, стало быть, в недостаточной мере играют, то чистым движущим мотивом эта идея становится только в движении зрителей, то есть наций, собравшихся вокруг этой сцены и наблюдающих за тем, что на ней происходит; это наблюдение таит в себе риск, оно обращено на само себя и поэтому становится делом весьма и весьма серьезным. Как возвышенное не является предикатом данных вещей громадного размера или огромной силы, а включает в себя косвенное выражение идеи разума, так и сопровождающий эту революцию очевидный «энтузиазм» зрителей – разновидность возвышенного чувства – представляет собой только эстетический аналог истинного республиканского пыла и, следовательно, должен рассматриваться как «исторический знак», как примета, указывающая на моральное наполнение исторического мгновения: как signum rememorativum[51], ибо он выявляет – среди зрителей – всегда уже наличествующую предрасположенность рода человеческого к лучшему; как signum demonstrativum[52], ибо он демонстрирует актуальную действенность этой предрасположенности; и как signum prognosticum[53], ибо он – даже если революция угаснет или будет предана забвению – сохранит воспоминание моральной предрасположенности о себе самой[54]. Не революционный переворот и не начало новой эпохи составляют событие, а их созерцание; действенны не поступки актеров, а эмоциональные реакции зрителей. Стало быть, если революция – это театр и в качестве такового она представляет собой незабываемый феномен истории, то ожидаемый «отклик» никак не может быть фактическим, он возникает исключительно «в сердцах зрителей» и «равен их сокровенному желанию». Но только будучи заблокированным, это желание правомерно желает реализации закона. Только таким образом исторический факт становится событием закона; только таким образом учреждение и закон становятся зримыми в качестве актов публичной воли; и только таким образом государство-театр и гражданский субъект закона получают эмпирическую санкцию – именно в участии зрителя, а не благодаря участию в действии.


