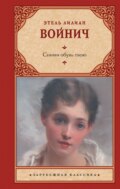Этель Лилиан Войнич
Оливия Лэтам. Джек Реймонд
Дверь соседней комнаты неожиданно затряслась под градом сыпавшихся на нее ударов. Это запертый в своей комнате Ваня, до тех пор молчавший, вновь разбушевался, услышав рядом чьи-то голоса.
– Она меня заперла! – вопил он, стуча в дверь изо всей мочи кулаками и ногами. – Слышишь? Эта английская ведьма заперла меня… меня… дворянина…
– Петр! – резко и повелительно крикнул Владимир. – Сейчас же выходи!
Дверь отворилась, и на пороге появился картежник. Он сбросил пальто, но не переоделся и не умылся. Трясущиеся руки его были в грязи, спутанные волосы взмокли от пота, костюм измят и растерзан. Мутные глаза его с ужасом уставились на гневное лицо Владимира.
Оливия, услышав шум, поспешно вернулась. Ей тоже стало не по себе, когда она увидела выражение лица Владимира. Он смотрел на ее забинтованную руку.
– А теперь надо расправиться с другой скотиной, – сказал Владимир, открывая дверь в комнату Вани. Разъяренный маньяк с диким воплем бросился на Оливию. Она спокойно отстранилась, а Владимир, схватив его за руку, швырнул назад в комнату.
– Отправляйся спать, – приказал он. – Неужели у тебя не осталось ни капли стыда? – Глаза его сверкали гневом.
С минуту Ваня, раскрыв рот, смотрел на брата, потом повалился на пол и громко зарыдал.
– Отправляйся спать, – строго повторил Владимир. Сраженный раскаянием, Ваня молча повиновался.
Владимир запер дверь и, держа в руке ключ, подошел к Петру. Тот, опустив глаза, молча стоял рядом.
– Ты видел, что он сделал с ее рукой?
Картежник медленно поднял глаза и вновь опустил их. На лице его выступили красные пятна.
– Это натворил Иван, пока я рыскал по всей округе, разыскивая тебя. Ей пришлось защищать от этого мерзавца твоих детей.
Из комнаты, где был заперт пьяница, доносились безудержные стенания:
– Володенька, не сердись! Христа ради, не сердись!
Петр поднес к горлу дрожащую руку. Он хотел что-то сказать, но губы его так тряслись, что он не мог вымолвить ни слова.
– Я говорил тебе, – наконец вымолвил он, – надо было оставить меня… это единственное спасение…
Владимир усмехнулся:
– Значит, в довершение всего… еще и следствие?
Оливия, не выдержав, вмешалась. Надо во что бы то ни стало положить конец этой отвратительной сцене. Для нее в неприкрытом позоре этого опустившегося человека было что-то абсолютно недопустимое. Он был похож на преступника, закованного в колодки и выставленного на всеобщее посмешище. Она шагнула вперед и взяла из рук Владимира ключ.
– Послушайте, – обратилась она к Петру. – Будьте же благоразумны. Володя со вчерашнего дня не спал и не ел, да и вы тоже. Нельзя допустить, чтобы Володя снова заболел. Прошу вас, возьмите ключ и присмотрите за Ваней. Если вам хочется побыть вечером одному, я принесу вам ужин в комнату. Пойдем, Володя.
Рука картежника машинально сжала ключ. Он молчал, и ни один его мускул не дрогнул, пока девушка не скрылась из виду. Ее бесстрастный взгляд, в котором не было и тени упрека или презрения, наполнил его душу жгучим стыдом. Он понял, что для нее ни он, ни хнычущий за дверью пропойца не были людьми. Они – лишь случай в ее медицинской практике. Даже холодный, беспощадный гнев Владимира было легче вынести, чем это профессиональное всепрощение, равнодушную снисходительность этой филантропки по специальности, которая изучила все заблуждения и соблазны человечества, но сама не испытала ни одного из них.
Глава VI
На следующий день жизнь в доме, казалось, вошла в свою привычную колею. К тете Соне вернулось всегдашнее благодушие, и она болтала, словно сорока. Петр, молчаливый и осунувшийся, работал, как обычно, и даже заставил заняться чем-то Ваню. За обедом Петр не проронил ни слова. Молчал и Ваня. Оливия забавляла детей разными шутками, чтобы отвлечь их внимание от отца, а после обеда предложила им пойти на кухню: она научит их варить тянучки на английский манер. Погода все больше портилась, нечего было и думать выпустить ребят погулять.
– Володя, – сказала Оливия, направляясь к двери в сопровождении весело прыгавших, возбужденных детей, – тебе бы надо прилечь.
Он и впрямь выглядел совсем больным. Усталость и нервное напряжение последних двух дней не прошли для него даром. Ночью он подолгу кашлял.
– Я предпочитаю варить вместе с вами тянучки, – заявил Владимир, усаживая себе на плечо самого младшего из детей. – Можно?
– Тогда подожди, пока мы все приготовим. А ну, цыплятки, живо мыть руки, все до одного. Иду, тетя Соня.
Она покрыла голову платком и под проливным дождем побежала на кухню. Сквозь водяную завесу Оливия едва разглядела Петра и Ваню, пробиравшихся к амбару. Сторожевые собаки забились в свои будки и жалобно повизгивали. Погода была отвратительная.
Приготовив на кухне все, что нужно, Оливия вернулась в дом за детьми. Они были в гостиной. Окружив сидевшего в кресле Владимира, они слушали сказку, которую он им рассказывал. Оливия, стряхивая с платка дождевые капли, вошла в гостиную и, услышав его голос, остановилась у двери.
– Когда Зеленая гусеница вползла на самую верхушку камыша и обвилась вокруг его крошечной макушки, она оказалась так высоко, что смогла увидеть все, что происходило вокруг. Перед ней раскинулась такая широкая, огромная страна, какой она никогда до сих пор не видела. Она называлась Страной Завтрашнего Дня, потому что все дети в ней стали уже взрослыми, а все гусеницы превратились в бабочек (ведь именно это и происходит с гусеницами, когда они становятся взрослыми, не так ли?). А посередине Страны Завтрашнего Дня стояло огромное дерево – самое огромное дерево в мире. Ствол его поддерживал небо, а корни крепко вцепились в землю, чтобы она не провалилась, когда вы начинаете слишком сильно прыгать. В тени густых ветвей этого дерева было так сумрачно и тихо, что утром, когда звездам пора ложиться спать (да, да, если ты – звезда, то должен спать днем), все они слетались в траву, прятались в тени ветвей и крепко спали там до вечера, спрятав крошечные головки под крылышки. А вот и Оливия! Теперь пойдемте варить тянучки.
– Тянучки подождут, – засмеялась Оливия. – Я хочу послушать про Зеленую гусеницу.
– Стоит ли, дорогая? Ведь нашим гусеницам все равно не превратиться в бабочек. Сашка, хочешь посажу тебя на спину? Только держись крепче. Будь я большим генеральским конем, ты бы был генералом и ехал на мне с важным и надутым видом. Но я всего-навсего обозная кляча, а ты – мешок с картошкой. Так что берегись: не то начну лягаться и сброшу тебя.
Когда довольные, перепачканные липкой массой дети стали лакомиться горячими тянучками, Владимир позвал Оливию в павильон. Их пребывание в Лесном подходило к концу, и ему хотелось перед отъездом в город вылепить ее руку.
– Когда ты уедешь домой, у меня останется хоть слепок.
Она с сомнением посмотрела в окно:
– Посмотри, какой ливень! Не велика беда, если вымокну я, но тебе этого ни в коем случае нельзя.
– Чепуха! Тут всего минута ходу. Пойдем, голубка, мы так редко бываем вдвоем, а там единственное место, где нам никто не мешает.
Они вышли, укрывшись под большим зонтом и с трудом удерживая его вдвоем при свирепых порывах ветра. Придя в павильон, они растопили печь и высушили одежду. Потом Владимир достал глину и начал лепить. Оливия не шевелилась, глядя на пылающие угли. Методичная во всем, она хорошо позировала: рука ее, лежавшая на столе, ни разу не сдвинулась с выбранного скульптором положения. Но на лбу собрались морщинки: надо было сообщить Владимиру, что она останется с ним до Рождества. А как это сделать, не рассказав ему об опасениях Карола? Сама Оливия полагала, что лучше сказать ему всю правду. Если у человека нет надежды на выздоровление, он должен знать это. Но разве можно ослушаться доктора, который велел молчать? Оливия решительно вскинула голову:
– Володя…
Он поднял глаза, отложил глину и подошел к ней.
– Радость моя, что случилось?
– Володя, я не еду на той неделе в Англию. Я остаюсь с тобой.
– Остаешься… со мной?
Он опустился на колени, и она обняла его за шею.
– Помнишь, я говорила тебе, что не выйду за тебя замуж, пока не расскажу обо всем моим родным? Я хотела постепенно подготовить их к этому – так было бы лучше. Но с тех пор я много думала об этом и вижу, что была не права. Жизнь моя принадлежит тебе, и мы поженимся, как только ты захочешь.
Владимир молчал.
– Бедная моя, – сказал он наконец, поглаживая ее волосы, – значит, Карол тебе все-таки сказал?
Оливия вздрогнула и высвободилась из его объятий.
– Почему ты так думаешь? Разве Карол… говорил тебе об этом?
– Мы с Каролом говорили о разных вещах. Что именно он сказал тебе, дорогая?
– Только то, что он… не совсем удовлетворен твоим здоровьем. Поэтому он советовал мне остаться до зимы. Володя, мы с тобой взрослые, разумные люди, не лучше ли нам поговорить начистоту? Я не знаю, в какой степени, по мнению Карола, поражены твои легкие. Лондонский специалист считает твое положение серьезным, но не безнадежным. При таком здоровье, как у тебя, нам не следует, конечно, иметь детей, но это еще не значит, что я не должна быть возле тебя, ухаживать за тобой, когда ты болен, и сделать тебя настолько спокойным и счастливым, насколько это в моих силах. Ведь что бы ни случилось, для меня ты – все, все на свете.
При последних словах голос ее чуть дрогнул.
– Ненаглядная моя, лучше мне и в самом деле поговорить с тобой начистоту. Когда Карол говорил с тобой обо мне, он имел в виду не мое здоровье.
– Но он сказал…
– Да, я знаю. Я тоже не хотел тебе ничего говорить. Дело в том, что наше положение теперь осложнилось, есть даже некоторая опасность.
– Ты имеешь в виду… политическую обстановку?
– Да. Один из наших был недавно арестован, и он оказался не тем, за кого мы его принимали. Он может причинить нам немало вреда, потому что не умеет держать язык за зубами.
– Раз так, то почему же ты не уезжаешь? Если тебе снова грозит арест, почему бы не поехать со мной в Англию, и как можно скорее, пока еще не поздно?
– Как раз поэтому, родная моя, я и не могу ехать. Мой внезапный отъезд будет выглядеть очень подозрительно и навлечет опасность на других. Уехать теперь – значило бы для меня то же, что для тебя бросить борьбу с оспой в самый разгар эпидемии. Таких людей сравнивают обычно с крысами, которые бегут с тонущего корабля.
– Я совсем не хочу, чтобы ты поступил как трус. Но я все-таки не понимаю. Если оставаться здесь тебя обязывает чувство долга – тогда, спору нет, ты поступаешь правильно. Но ты уверен, что это так?
– Уверен. Как только мне разрешат выехать из имения, я тотчас же поеду в Петербург. Дело только за разрешением, – будь оно у меня, я бы выехал при первом тревожном известии.
– А когда ты узнал это?
– За два дня до отъезда Карола. Я рассказал ему обо всем, и, наверно, поэтому он и заговорил с тобой. Теперь, любимая, ты знаешь все, что я был вправе тебе сказать. Не бойся: скорее всего дело обойдется благополучно. А теперь выслушай мою просьбу: немедленно возвращайся в Англию. Как только опасность минует, я в ближайшие месяцы пошлю за тобой, и мы поженимся.
– А если не минует? – Оливия выпрямилась и с вызовом посмотрела на Владимира.
– А если не минует, то ведь и ты, дорогая, не сможешь помочь мне. Только понапрасну изведешься от всех этих жестокостей.
– Неужели ты считаешь, что я должна уехать от тебя и всех этих жестокостей, которые тебя ожидают, а не бороться вместе с тобой?
– Да. Потому что ты ничем не сможешь помочь.
– Так к чему же, по-твоему, сводится любовь между мужчиной и женщиной? По-моему, вот к чему: ты мой, и все, что касается тебя, касается и меня. Жестокости, о которых ты говоришь, не исчезнут оттого, что я их не увижу. Если мне суждено потерять тебя, то я останусь здесь и буду с тобой до самого конца.
– Как хочешь, любимая, но с женитьбой лучше повременить. Если со мной что-нибудь случится, то ты, как английская подданная, будешь в безопасности. Но если ты выйдешь за меня замуж, посольство не станет защищать тебя, а при создавшихся обстоятельствах тебе лучше не лишаться его поддержки.
– Меня нисколько не волнует, если я и лишусь ее.
– Но меня это волнует. В конце концов, дело ведь не в бракосочетании, а в любви.
Обнявшись, они долго сидели молча.
– Видишь ли, – произнесла Оливия, подняв голову, – есть одно обстоятельство, которое меня особенно угнетает. Мне трудно примириться с тем, что я могу потерять тебя и остаться одинокой из-за дела, которое мне совсем чуждо, о котором я ничего не знаю.
– Дорогая, я не вправе открыть тебе…
– Да разве в этом дело? Разумеется, ты не должен открывать мне чужие тайны. Даже и сделай ты это, мне бы не стало легче. Если я лишусь тебя – какое мне утешение в том, что я буду знать, в чем именно тебя обвиняют? Мне нужна уверенность, твердое убеждение, которые облегчили бы мне дальнейшее существование.
– Уверенность в чем?
Оливия посмотрела ему прямо в глаза:
– В том, что в глубине души ты ни разу не усомнился в правоте своего дела.
Лицо Владимира сразу омрачилось, и душа его, раскрывшаяся перед ней, снова замкнулась.
– Нельзя усомниться в том, что подсказывают человеку его честь и чувство долга.
– Ах, да будь же искренен со мной до конца! – вскричала Оливия. – Будь искренен! Дело совсем не в том, как ты должен поступить сейчас: конечно, нельзя отречься от того, что ты сам когда-то избрал. Я говорю совсем не об этом. Но я хочу знать, как бы ты поступил, если б мог начать жизнь снова, стал бы ты опять…
Он зажал ей рот:
– Молчи, дорогая, молчи! Если бы каждый из нас мог начать жизнь снова, многие вообще не пожелали бы родиться.
Непонятный страх охватил Оливию. Помолчав, Владимир заговорил снова:
– Ты, конечно, вправе спросить меня: жалею ли я о том, что избрал такой удел? Отвечаю тебе как на духу: я ни о чем не жалею. Я и другие, мне подобные, – неудачники. Мы не смогли свершить то, к чему стремились. Мы оказались недостаточно сильны, и народ не был еще готов к действию. Поэтому-то мы и потерпели поражение, это ясно. Но я предпочитаю потерпеть поражение, чем уклониться от битвы; и люди, которые придут нам на смену, обязательно победят. Вот и все. Поняла? И больше, умоляю тебя, никогда не говори со мной об этом.
Присущее Оливии чувство сдержанности тотчас же откликнулось на эту просьбу. Она высвободилась из объятий Владимира и встала:
– Доктор Славинский говорил мне, между прочим, что у тебя сохранилось много старых рисунков. Ты ведь не сжег их? Мне бы очень хотелось взглянуть на них.
Очевидно, она выбрала неудачную тему. Лицо Владимира нахмурилось, и в голосе послышалось раздражение:
– Карол мог бы держать язык за зубами. Удивляюсь – как правило, он не болтлив. Зачем тебе смотреть на этот старый хлам?
– Да просто из чувства дружеского интереса к тебе и ко всему, что с тобой связано.
– Что со мной связано! Да, в этом есть кое-что поучительное.
Оливия приняла непринужденный вид.
– Прежде чем судить о твоих рисунках, я должна их увидеть. Что же касается всего остального, то мы не для того пришли сюда под таким ливнем, чтобы говорить об этом.
– Правильно, моя Британия. Так и быть, покажу тебе рисунки, хоть они и не стоят того, чтобы на них смотреть. Ты и в самом деле похожа на Британию: великолепна, но немножко…
– Суховата? Это верно. Дик Грей тоже говорил мне, что я суховата. Но в этом есть свои плюсы. Тебе не кажется, что с папки, прежде чем открывать ее, нужно вытереть пыль? Дай я сделаю это сама, тряпкой орудуют совсем не так.
Среди рисунков, небрежно засунутых в папку, было много скомканных и грязных, а некоторые – разорванные и обгоревшие. Большей частью то были грубые наброски мелом или цветным карандашом: руки, ноги, искривленные стволы деревьев, изогнутые ветви. Были и сцены из сельской жизни: дерущиеся собаки, дети с котомками за плечами, старики за беседой, бабы у колодца. Несмотря на незрелость и даже неправильность самих рисунков, они поражали зрителя страстностью изображения, мощной жизненной силой. Даже Оливия, ничего не понимавшая в живописи, видела, что мускулы рук и ног были кое-где изображены неправильно, но необыкновенная живость, бьющая через край сила и энергия, отчаянная воля к жизни, запечатленные в фигурах, заставили бы и более искушенного, чем Оливия, критика забыть о технических недостатках.
– Разве ты никогда не наблюдал животных или природу в состоянии покоя? – сказала Оливия, кладя рисунки на стол. – На твоих рисунках все несется, словно подхваченное вихрем.
– Зато теперь я вижу их в состоянии покоя.
Он смотрел на скульптуру мертвого сокола. Оливия проследила за его взглядом.
– Если ты называешь это состоянием покоя… Ты собираешься сжечь эти рисунки? Не надо.
Она взяла у него из рук большой рулон бумаги, перехваченный бечевой, и стала его развязывать.
– Здесь ничего нет, – поспешно сказал Владимир.
Оливия подняла голову.
– Ты не хочешь, чтобы я видела эти рисунки? Тогда не стану, прости, пожалуйста.
Держа рулон в руках, он посмотрел в сторону, потом протянул рисунки Оливии.
– Я не против того, чтобы ты их видела. Это этюды для одной картины, которую я задумал, но так и не смог закончить, – меня арестовали. Мне она тогда… очень нравилась. Если я когда-либо и нарисовал что-нибудь настоящее, то именно это. Посмотри.
Робея, сама не зная почему, Оливия развязала сверток и разгладила листы. На первом были только предварительные наброски: зарисовки рук, фигур, различных тканей, старинной одежды. На следующих листах были изображены два лица, много раз повторявшиеся дальше. Некоторые наброски были наполовину стерты или соскоблены, словно художник вдруг падал духом и уничтожал нарисованное.
Одно из лиц – женское, с правильными чертами – изображало молодую женщину восточного типа. На всех рисунках головной убор ее был богато украшен, а в широко раскрытых глазах застыл беспредельный ужас. Другое лицо было мужское. Оливия долго всматривалась в него, но так и не могла разгадать его непонятного выражения. На последних листах мужчина высоко поднял женщину на вытянутых мускулистых руках; казалось, он вот-вот с силой отшвырнет ее прочь от себя, а женщина, отчаянно сопротивляясь, пытается вырваться из его неумолимых объятий.
– Объясни мне, Володя, что это значит?
Он достал с полки книгу и, перелистывая страницы, подошел к Оливии.
– Я хотел нарисовать иллюстрации к драматической поэме, написанной лет двадцать назад.
– Прочти мне этот кусочек, пожалуйста, вслух, но только медленно, я с трудом понимаю русские стихи.
– А эти стихи особенно трудны – они написаны на старинный манер. Это о Стеньке Разине, о казаке, который возглавил в семнадцатом веке крестьянское восстание.
– Ваш Джек Кэд? Припоминаю что-то. Его, кажется, поймали и сожгли заживо или что-то в этом роде.
– Да, с ним зверски расправились. Я изобразил его, когда он плывет со своими товарищами на челне по Волге. Стенька влюбился в персидскую княжну, которую они похитили. Один из его друзей бросает ему упрек, что ради этой женщины он забыл про их общее дело. Когда принимаются за трапезу, казаки, согласно древнему обычаю, бросают в Волгу хлеб да соль, чтобы умилостивить владычицу рек. Стенька останавливает их. Вот это место:
Нашел чем потчевать! Ее не удивишь
Сукроем хлеба, хлеб ей не в новинку;
Она сама, коль надо, бьет суда
И вволю хлеб, родная, добывает.
(Встает.)
Нет, Волгу-матушку не так благодарят;
Вот мой подарок будет ей дороже!
(Оборачивается лицом к реке.)
Эх ты, Волга, матушка-река,
Приютила ты, не выдала меня,
Словно мать родная, приголубила,
Наделила вдоволь славой, почестью,
Златом, серебром, богатыми товарами;
Я ж тебя ничем еще не даривал,
За добро твое ничем не плачивал!
Не побрезгай же, родимая, подарочком,
На тебе, кормилица, возьми!
(Тут он хватает княжну и бросает ее в реку.)
– Володя, – прервала Владимира Оливия, повернувшись к нему с рисунком в руках, – по-моему, это просто талантливо.
К ее удивлению, он заговорил с такой горячностью, какой она никак от него не ожидала:
– Да какой там талант! Не бывать вороне соколом! Неужели ты не понимаешь, что я просто дурачился – портил зря хорошую бумагу, сработанную честным тружеником, а не таким бездельником, как я, вообразившим, что раз я дворянин, то могу бить баклуши, есть даровой хлеб и считать себя прекрасным малым! Чем это лучше пьянства Вани или картежничества Петра? Разве только тем, что одежда не так пачкается. Знаешь, как мужики называют мое увлечение лепкой? Барской причудой. И они правы. Они будут правы даже тогда, когда перережут нам всем глотки. Единственное оправдание нашей жизни в том, чтобы помочь им освободиться от еще худших паразитов, чем мы сами. А вот этого-то мы и не смогли сделать. От безделья и пустого чванства мы все прогнили, насквозь прогнили! Ох уж эти барские причуды!
Запихнув рисунки в папку, он швырнул ее в сторону. Оливия не спускала с Владимира глаз.
– Когда ты так говоришь, я теряю всякую надежду понять тебя. Смысл твоих слов не доходит до меня.
– И никогда не дойдет!
– Володя!
С минуту он стоял у окна спиной к Оливии, глядя на проливной дождь. Потом, пожав плечами, повернулся к ней:
– Дорогая, ни ты, ни я тут не виноваты. Иначе у нас с тобой и быть не может, – слишком различные у нас натуры. Нам снятся разные свиньи.
– Разные…?
– Прости, я совсем забыл, – ведь ты не читала книгу «За рубежом». Там рассказывается об одном русском, который живет в Париже. Как-то ночью он так закричал во сне, что разбудил весь дом. Оказывается, ему приснилась страшная свинья. Хозяйка говорит ему, что это часто случается с ее жильцами, так как по соседству с ее домом находится бойня и по ночам оттуда доносится визг свиней. «Ах, мадам, – ответил русский, – тут есть разница. Если французу снятся свиньи, то это свиньи, которых едят люди; а если приснятся свиньи русскому, то это такие свиньи, которые едят людей».
– Все равно ничего не понимаю, – грустно сказала Оливия. – Мне очень жаль, но я все равно не понимаю.
Владимир нетерпеливо повернулся к окну.
– Давай лучше вернемся к работе, – устало проговорил он. – Ну как тебе понять?
Он придал ее руке нужное положение и начал лепить. Однако вскоре отодвинул глину в сторону.
– Бесполезно. Ничего не выходит.
– Потому что ты сегодня слишком устал. Отдохни.
– Ты думаешь, это только сегодня? Пойдем лучше назад к детям.
Оливия с чувством облегчения набросила на голову платок и взяла в руки большой зонт. Присутствие посторонних хоть на время избавит ее от необходимости постигать непостижимое.
Выйдя под проливной дождь, они увидели, что навстречу им по склону холма с трудом поднимаются два человека. Первый из них, судя по одежде – кучер, обратился к Владимиру:
– Будьте добры, ваша милость, не откажите в ночлеге проезжим. Я кучер князя Репнина. Вез к ним на охоту гостя по Торопецкой дороге, да вот наскочил ненароком на поваленное дерево. Коляска перевернулась, колесо отскочило, да и сами чуть в озеро не угодили. А тут еще погодка такая распроклятая… Уж коли ваша милость позволит…
– Никто не покалечился?
– Нет. Да барин вымок до нитки и прозяб, а до места еще далеко.
– Конечно, заночуйте у нас. Сегодня уже вам нельзя ехать. Сколько вас всего?
– Трое. Барин, его слуга да я. Барин-то, видать, француз. Я ихнего разговору не разумею. Слуга остался с лошадьми, а барин пошел со мной. Может, ваша милость потолкует с ним?
– Милости просим к нам, – сказал по-французски Владимир. – Я сейчас распоряжусь, чтобы сюда доставили ваши вещи. Ну что вы, какое же для нас в этом неудобство? В наших краях мы привыкли к подобным происшествиям. Входите, пожалуйста.
Он направился в сопровождении кучера к дому, оставив Оливию с незнакомцем, который, продолжая извиняться, вошел в павильон, скинул с себя плащ и протянул к огню озябшие руки. У него была замечательная внешность: парижанин с головы до пят, с выразительными глазами и кольцами вьющихся седых волос. «Таких людей, – подумала Оливия, – обычно величают „маэстро“». Лицо гостя показалось ей странно знакомым. Очевидно, он был какой-то знаменитостью и она видела его фотографии.
– Разрешите представиться, – обратился он к ней, – моя фамилия Дюшан.
Оливия вздрогнула: неудивительно, что лицо его показалось ей знакомым.
– Мосье Леон Дюшан, художник?
Гость поклонился.
– Мой друг князь Репнин пригласил меня принять участие в его осенней охоте, и я согласился, так как давно хотел увидеть настоящий девственный лес. Я впервые в России и совсем не знаю русского языка. Нетрудно понять, что, когда экипаж сломался и мы очутились одни в этой глуши, я всей душой пожалел, что покинул свой уютный дом в Париже. Я счастлив встретить здесь такой радушный прием.
– Для вас уже готовят комнату, – сказал подоспевший Владимир, задыхаясь от быстрой ходьбы. – Сядьте поближе к огню и отдохните. Ужин будет скоро готов. Ваш слуга разбирает вещи.
Кровь прихлынула к лицу Владимира, когда он услышал имя незнакомца. Но он тут же сильно побледнел. О встрече с Леоном Дюшаном он мечтал еще в юности. «Если бы мне только попасть в Париж, к Дюшану, – думал тогда Владимир, – он бы поверил в меня и помог стать настоящим художником».
Художник придвинул кресло к огню, не сводя с хозяина проницательных темных глаз. Он, как и Бэрни, сразу подметил странную красоту головы Владимира и, несмотря на усталость, почувствовал в озябших пальцах зуд – так захотелось набросать ее.
– Я, кажется, попал к коллеге, – проговорил он, указывая на глину. – Мосье – скульптор?
Владимир сейчас же насупился.
– Всего лишь любитель, не больше.
Мрачный тон ответа несколько удивил Дюшана, но голос его звучал по-прежнему любезно.
– Вы слишком скромны, мосье. Фигура этой большой птицы…
Он не договорил и, все больше изумляясь, стал разглядывать сокола.
– Это ваша работа? Но это просто замечательно. Уверяю вас – это замечательно. Вы талантливы, бесспорно талантливы.
– Вы слишком снисходительны, – произнес Владимир таким тоном, что сразу отбил у собеседника охоту продолжать разговор. Француз с недоумением посмотрел на него.
– Простите, – тихо сказал он, – я, кажется, допустил бестактность.
Оливия сделала отчаянную попытку перевести разговор на другую тему. Вся эта сцена была невыносимо мучительна для нее, и она произнесла первое, что пришло ей в голову:
– Усадьба князя Репнина очень далеко отсюда, и доехать туда за один день трудно даже в хорошую погоду.
– Вы правы. Перед отъездом я справился, нет ли по дороге жилья, где мы могли бы остановиться в случае необходимости. Но мне ответили, что нет. Мне очень жаль, что пришлось так бесцеремонно ворваться в ваш дом. Даже после того как у нас сломалась коляска, мы долго не решались побеспокоить вас.
– Дело совсем не в том, что вы побеспокоили нас, – сказал Владимир тем же ледяным тоном. – Справедливости ради я должен поставить вас в известность, что люди избегают наш дом. Поскольку вы иностранец и человек известный, вам нечего опасаться серьезных неприятностей из-за того, что вы переночуете здесь; разве только урядник попросит дать объяснения. Дело в том, что я нахожусь под полицейским надзором как человек политически неблагонадежный и бывший в заключении.
Лицо художника, вначале растерянное, внезапно просветлело.
– Да это просто честь для меня, – проговорил он, протягивая Владимиру руку. – Мы, старое поколение, тоже немало выстрадали во Франции. Лучший друг моей юности был сослан в Новую Каледонию и там погиб, а я… я вот теперь беседую с вами… – Он пожал плечами. – Мне удалось спастись. Я выжил, чтобы отдаться живописи.
В дверь постучали, и Владимир взял поднос из рук Феофилакты.
– Ваша комната готова. Тетушка прислала вина. Она полагает, оно предохранит вас от простуды.
Владимир взял со стола папку, чтобы освободить место для подноса; при этом один из рисунков упал к ногам гостя. Тот поднял его. Это был этюд головы Стеньки Разина.
– Черт возьми! – вырвалось у Дюшана. Несколько минут он молча разглядывал рисунок. Потом повернулся к Владимиру. От парижской учтивости не осталось и следа. – А это… это тоже вы сделали? – с неожиданной резкостью спросил он.
– Я рисовал это очень давно, в юности.
– А есть еще что-нибудь? Можно посмотреть?
Лицо Владимира побелело и словно заострилось.
– Если вам угодно, – ответил он, кладя папку на стол. – Когда-то я мечтал привезти их в Париж и показать вам.
– Так почему же вы не…?
– Меня арестовали.
– Так. А потом?
Владимир отвел глаза в сторону, засмеялся и пожал плечами.
– Не кажется ли вам, что мне уж поздно думать о карьере художника и начинать все сначала? Мне тридцать два года и… у меня чахотка.
Художник сел и открыл папку. Некоторое время он молча просматривал рисунки. Оливия и Владимир, опустив глаза, стояли около печки. Прошло несколько минут, показавшихся девушке вечностью. Наконец Дюшан встал и, подойдя к другому столу, стал пристально вглядываться в фигуру сокола.
– Но это же преступление! – вскричал он, резко повернувшись к ним. – Слышите? Самое настоящее преступление! Вас посмели арестовать… и все это погибло! Боже! Что за страна! – Гневным жестом он воздел к небу руки. – Но и вы тоже хороши – нечего сказать! Загубить свою жизнь из-за политики, из-за заговоров, когда сам всемогущий Бог создал вас скульптором! И без вас нашлось бы кому ввязаться в борьбу! А вы могли бы стать…
– Не надо, – умоляюще вмешалась Оливия, – не будем говорить о том, что могло бы быть; надо исходить из того, что есть.
Дюшан сразу замолчал. Оба посмотрели на Владимира.
– Мадемуазель права, – сказал художник, закрывая папку. – Я злоупотребил вашим терпением, пустившись в такие пространные рассуждения. С вашего позволения я пойду переоденусь.
Оливия направилась с художником к выходу. В доме на нее тут же налетела тетя Соня, до смерти напуганная тем, что салат не будет отвечать всем требованиям французской кухни. Когда ужин был готов, Оливия поспешила за Владимиром. Она опасалась, как бы назойливая тетушка не опередила ее.
Еще не совсем стемнело, и в сумерках, при красном отблеске раскаленных углей, она увидела, что комната пуста, а папка раскрыта. Печка была забита обуглившейся бумагой. Оливия медленно наклонилась и вытащила скомканный тлеющий лист, на котором все еще можно было различить борющиеся фигуры Стеньки Разина и персидской княжны.