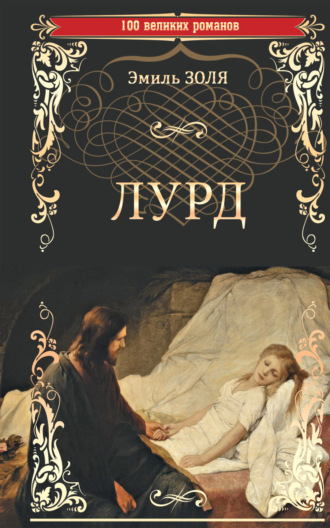
Эмиль Золя
Лурд
Пьер вспомнил один вечер. Лампы еще не зажигали; он сидел возле Мари в темноте, и вдруг она сказала, что хочет поехать в Лурд, она уверена, что вернется оттуда исцеленной. Ему стало не по себе; забывшись, он назвал безумием веру в такие ребяческие бредни. Пьер никогда не говорил с Мари о религии, отказавшись не только быть ее духовником, но даже разрешать невинные сомнения набожной девушки. В нем говорили целомудрие и жалость, ей он не мог лгать, а с другой стороны, он чувствовал бы себя преступником, если бы хоть немного омрачил огромную, чистую веру, в которой Мари черпала силу, помогавшую ей переносить страдания. Вот почему он был недоволен собой за невольно вырвавшиеся слова и очень смутился. Вдруг маленькая холодная ручка коснулась его руки; тихо, ободренная темнотой, Мари надломленным голосом решилась открыть ему, что знает его тайну, – она догадалась о его несчастье, страшной муке неверия, непереносимой для священника. Он сам невольно все поведал ей в их беседах, а она с интуицией больного человека, дружески расположенного к нему, проникла в самую сокровенную глубину его совести. Она страшно беспокоилась за него, она жалела его больше, чем себя самое, сознавая томившую его смертельную муку. А когда пораженный Пьер не нашел ответа, подтверждая своим молчанием истину ее слов, Мари снова заговорила о Лурде, добавив тихо, что хотела и его поручить святой деве, умолить ее вернуть ему веру. С этого вечера Мари не переставала говорить о Лурде, повторяя, что вернется оттуда исцеленной. Но ее останавливал вопрос о деньгах, и она даже не решалась заговорить об этом с сестрой. Прошло два месяца, Мари слабела с каждым днем; ее одолевали мечты, и взор ее обращался туда, к сиянию чудодейственного Грота.
Для Пьера настали тяжелые дни. Сперва он наотрез отказался сопровождать Мари. Потом решение его поколебалось, он подумал, что может с толком использовать время, потраченное на путешествие, и собрать сведения о Бернадетте, чей очаровательный образ жил в его сердце. Наконец он проникся сладостным чувством, неосознанной надеждой, что, быть может, Мари права: святая дева сжалится над ним и вернет ему слепую веру, невинную веру ребенка, который любит не рассуждая. О, верить, всей душой погрузиться в религию! Какое невероятное счастье! Он стремился к вере со всею радостью молодости, со всею силой любви к матери, со жгучим желанием уйти от муки знания, уснуть навеки в божественном неведении. Какая дивная надежда и сколько малодушия в этом стремлении обратиться в ничто, отдаться всецело в руки бога!
Так у Пьера возникло желание сделать последнюю попытку.
Через неделю вопрос о поездке в Лурд был решен. Но Пьер потребовал созвать консилиум, чтобы узнать, можно ли перевозить Мари, и тут ему вспомнилась еще одна сцена, его упорно преследовали некоторые подробности, тогда как другие уже стерлись из памяти. Двое врачей, давно пользовавших больную, – один, констатировавший разрыв связок, другой паралич, явившийся следствием поражения спинного мозга, – сошлись в мнении, что у Мари паралич и, возможно, некоторые нарушения со стороны связок; все симптомы были налицо, случай казался им настолько ясным, что они, не задумываясь, подписали свидетельства с почти одинаковым диагнозом. Они считали путешествие возможным, но крайне тяжелым для больной. Мнение этих врачей заставило Пьера решиться, так как он считал их очень осторожными, очень добросовестными в своем желании выяснить истинное положение вещей. У него сохранилось смутное воспоминание о третьем враче, Боклере, его дальнем родственнике, пытливом молодом человеке, но малоизвестном и слывшем чудаком. Он долго смотрел на Мари, интересовался ее родственниками по восходящей линии, внимательно выслушал то, что ему рассказали о г-не де Герсене, архитекторе-изобретателе, преувеличенно впечатлительном и бесхарактерном. Затем он измерил зрительное поле больной, незаметно, путем пальпации, выяснил, что боль локализовалась в левом яичнике и что при нажиме эта боль подступала к горлу тяжелым клубком, который душил ее. Он не придавал никакого значения диагнозу своих коллег о параличе ног. И на прямой вопрос воскликнул, что больную надо везти в Лурд, больная непременно исцелится, раз она в этом уверена. Он говорил о Лурде вполне серьезно, – лишь бы была вера; две его пациентки, очень верующие, которых он послал в прошлом году в Лурд, вернулись совершенно здоровыми. Он даже предсказал, как произойдет чудо: это будет молниеносно, больная очнется после состояния сильнейшего возбуждения, и адская боль, которая мучит девушку, появившись в последний раз, исчезнет вдруг. Но врач решительно отказался дать письменное свидетельство. Он расходился в мнении со своими коллегами, а они очень холодно отнеслись к его молодому задору. Пьер смутно припоминал отдельные фразы спора, обрывки высказываний Боклера на совещании врачей: вывих с легкими разрывами связок вследствие падения с лошади, затем медленное восстановление пораженных связок; а позже возникли уже нервные явления: больная под действием первоначального испуга не переставала думать о своем недуге, все ее внимание сосредоточилось на пораженной точке, и боль стала расти. Только сильный толчок, какое-нибудь исключительное потрясение может вывести больную из этого состояния. Впрочем, он допускал неправильный обмен веществ, однако вопрос этот был еще мало исследован, поэтому он не решался высказаться о большом значении этого фактора. Но мысль, что болезнь Мари воображаемая, что ужасные страдания, мучившие ее, были следствием давно вылеченного повреждения, показалась Пьеру настолько парадоксальной, что он даже не придал ей значения – ведь он видел девушку умирающей, он видел ее безжизненные ноги. Его только радовало, что все три врача сошлись в мнении, допускавшем поездку в Лурд. Достаточно было сознания, что Мари может поправиться, – и он готов был сопровождать ее на край света.
Ах, в какой суматохе провел он последние дни в Париже! Скоро начнется паломничество. Пьеру пришла на ум мысль просить Попечительство госпитализировать Мари, чтобы избежать лишних расходов. Затем ему пришлось немало похлопотать, чтобы его самого приняли в Попечительство богородицы всех скорбящих. Г-н де Герсен был в восторге; он любил природу и горел желанием видеть Пиренеи; он ни о чем не заботился, ничего не имел против того, чтобы молодой священник взял на себя дорожные расходы, оплату гостиницы на месте – словом, ухаживал бы за ним, как за малым ребенком; а когда Бланш в последнюю минуту сунула отцу луидор, он счел себя богачом. Бедная, доблестная Бланш! Она скопила пятьдесят франков, пришлось взять их, иначе она бы обиделась: ей тоже хотелось хоть чем-то помочь выздоровлению сестры, а сопровождать ее она не могла: она осталась в Париже, чтобы по-прежнему мерить его из конца в конец, бегая по урокам в то время, как ее родные будут преклонять колена в чудодейственном Гроте. Они уехали. И поезд все мчался и мчался вперед.
На станции Шательро внезапный гул голосов встряхнул Пьера, оторвав его от мечтаний. Что случилось? Разве уже приехали в Пуатье? Но был только полдень, и сестра Гиацинта возвестила чтение Angelus’a, состоящего из трех троекратно повторяемых молитв богородице. Голоса то затихали, то звучали вновь, начиная новое песнопение, изливаясь в длительной жалобе. Еще добрых двадцать пять минут – и будет получасовая остановка в Пуатье; это хоть немного облегчит страдания. Как было плохо, как ужасно качало в зловонном, жарком вагоне! Сколько горя! Крупные слезы катились по щекам г-жи Венсен, глухие проклятия вырывались у г-на Сабатье, обычно такого сдержанного, а брат Изидор, Гривотта и г-жа Ветю казались безжизненными, бездыханными, подобными обломкам корабля, уносимым волной. Мари молча лежала с зажмуренными глазами и не хотела их открывать; ее преследовало, как призрак, страшное лицо Элизы Руке с зияющей язвой, – оно казалось воплощением смерти. И пока поезд, ускоряя ход, мчал под грозовым небом по пылающим от зноя равнинам все это людское море, среди пассажиров снова началась паника: больной в углу перестал дышать, кто-то крикнул, что он кончается.
Глава III
Как только поезд остановился в Пуатье, сестра Гиацинта заторопилась к выходу, проталкиваясь сквозь толпу поездной прислуги, открывавшей двери, и паломников, спешивших покинуть вагон.
– Подождите, подождите, – повторяла она. – Дайте мне пройти первой, я должна посмотреть, неужели все кончено?
Войдя в соседнее купе, она приподняла голову больного и, увидев его смертельно бледное лицо и безжизненные глаза, подумала сперва, что он действительно умер; но он еще дышал.
– Нет, нет, он дышит. Скорее, надо торопиться.
И, обратившись ко второй сестре, которая была на этом конце вагона, сказала:
– Прошу вас, сестра Клер Дезанж, сбегайте за отцом Массиасом, он, должно быть, в третьем или четвертом вагоне. Скажите ему, что у нас здесь тяжелобольной, пусть сейчас же несет святые дары.
Не ответив, сестра исчезла в толпе. Она была небольшого роста, худенькая, с загадочным взглядом, кроткая и очень сдержанная, но чрезвычайно деятельная.
Пьер, молча следивший за этой сценой из своего купе, спросил:
– Не пойти ли за доктором?
– Конечно, я тоже об этом думала, – ответила сестра Гиацинта. – Ах, господин аббат, не откажите в любезности, сходите за ним сами!
Пьер как раз собирался пойти в вагон-буфет за бульоном для Мари. Когда прекратилась тряска, больной стало немного легче, она открыла глаза и попросила отца посадить ее. Ей очень хотелось хоть на минуту спуститься на перрон, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но она чувствовала, что такая просьба обременительна, слишком было бы трудно внести ее обратно.
Господин де Герсен, позавтракав в вагоне как и большинство паломников и больных, закурил папиросу возле открытой двери, а Пьер побежал к вагону-буфету, где находился дежурный врач с аптечкой.
Несколько больных остались в вагоне – нечего было и думать куда-то их выносить. Гривотта задыхалась и бредила, из-за нее задержалась г-жа де Жонкьер, которая условилась встретиться в буфете со своей дочерью Раймондой, г-жой Вольмар и г-жой Дезаньо, чтобы вместе позавтракать. Как же оставить эту несчастную, почти умирающую больную одну, на жесткой скамейке? Марта также не двинулась с места и продолжала сидеть возле брата; миссионер тихонько стонал. Прикованный к своему месту, г-н Сабатье ждал жену, она пошла купить ему винограду. Остальные пассажиры, те, что могли передвигаться, толкались, торопясь хоть на миг выйти из кошмарного вагона и размять ноги, онемевшие за семь часов пути. Г-жа Маэ тотчас же отошла в сторонку, стремясь спрятать от людей свое горе. Г-жа Ветю, отупевшая от боли, с усилием прошла несколько шагов и упала на скамью на самом солнце – она даже не чувствовала его обжигающих лучей; а Элиза Руке, которую мучила жажда, искала, закрывшись черным платком, где бы напиться свежей воды. Г-жа Венсен медленно прогуливалась с Розой на руках; она пыталась улыбаться и как могла развлекала дочь, показывая ей ярко раскрашенные картинки, а девочка серьезно смотрела на них невидящими глазами.
Пьер с большим трудом пробивал себе дорогу в толпе, запрудившей платформу. Трудно представить себе этот живой поток калек и здоровых, которых поезд выбросил на перрон; свыше восьмисот человек волновались, суетились, куда-то бежали, задыхались. Каждый вагон выгрузил столько горя, сколько может вместиться в целом походном госпитале; сумма страданий, которые перевозил этот страшный белый поезд, была невероятной; недаром в пути о нем создавались легенды, исполненные ужаса. Немощные, еле живые люди кое-как тащились по платформе, некоторых несли на носилках, там и сям стояли, сбившись в кучу, группы людей. Вокруг была толчея, люди громко перекликались, без памяти спеша в буфет и к стойкам, где продавались напитки. Каждый торопился по своим делам. Эта получасовая остановка, единственная по дороге в Лурд, была такой короткой! И только сияющая белизна одежды деловито мелькавших сестер Общины успения – их белоснежные чепцы, нагрудники и передники – вносила разнообразие в море черных сутан и поношенного платья неопределенного цвета, в которое был одет весь этот бедный люд.
Когда Пьер наконец подошел к вагону-буфету, находившемуся в середине поезда, толпа людей уже осаждала вход. Там стояла маленькая керосиновая плита и целая батарея кухонной посуды. Бульон из концентратов подогревался в жестяных котелках; тут же выстроились литровые банки сгущенного молока, – его разводили и употребляли по мере надобности. Другие запасы – печенье, шоколад, фрукты – лежали в шкафу. Сестра Сен-Франсуа, работавшая в буфете, женщина лет сорока пяти, низенькая и полная, с добрым свежим лицом, теряла голову от множества протянутых к ней жадных рук. Продолжая раздавать еду, она слушала Пьера, который беседовал с доктором, сидевшим со своей дорожной аптечкой в другом купе вагона.
Узнав из рассказа молодого священника о несчастном умирающем, сестра Сен-Франсуа попросила заменить ее: ей хотелось пойти посмотреть на больного.
– Сестра, а я хотел получить у вас бульону для одной больной.
– Ну что ж, господин аббат, я принесу. Идите вперед.
Они поспешно вышли – аббат и доктор переговаривались между собой, а сестра Сен-Франсуа шла за ними с чашкой, осторожно продвигаясь в толпе, чтобы не пролить бульон. Доктор, высокий брюнет лет двадцати восьми, был очень красив собой и походил на молодого римского императора; такие лица еще и сейчас встречаются на выжженных полях Прованса. Заметив его, сестра Гиацинта с удивлением воскликнула:
– Как! Это вы, господин Ферран?
Оба были изумлены встречей. Сестрам Общины успения поручалась доблестная миссия ухаживать за больными, главным образом за бедняками, умирающими в своих мансардах из-за недостатка средств; сестры проводят всю жизнь возле этих больных, в тесных комнатах, подле убогих коек, выполняют самую тяжелую работу, готовят, хозяйничают, заменяют прислугу и родственниц и остаются у больных до их выздоровления или смерти. Вот каким образом молоденькая сестра Гиацинта с молочно-белым лицом и смеющимися голубыми глазами попала однажды к молодому человеку, тогда еще студенту, заболевшему брюшным тифом; он был очень беден и жил на улице Дюфур в комнате на чердаке, под самой крышей, куда вела деревянная лесенка. Сестра Гиацинта не покидала его и, ухаживая за ним со свойственной ей страстной самоотверженностью, спасла от смерти; когда-то ее ребенком нашли на церковной паперти, и у нее не было другой семьи, кроме больных, которым она была предана всей своей пылкой, любящей душой. Молодые люди провели вместе чудесный месяц, а после между ними установились чистые, товарищеские, братские отношения, скрепленные страданием. Называя ее «сестра», Ферран как бы на самом деле обращался к родной сестре. Она была для него и матерью, – помогала ему вставать и укладывала спать, как свое родное дитя; и никогда ничто не возникало между ними, кроме великой жалости, глубокого умиления, которым проникаются люди, творящие милосердие. Она была веселым существом, всегда готова помочь и утешить, и порой даже забывала о том, что она женщина, а он обожал ее, питал к ней величайшее уважение и сохранил о ней самые целомудренные и нежные воспоминания.
– Ах, сестра Гиацинта, сестра Гиацинта! – прошептал он в восторге.
Их встреча была совершенно случайной. Ферран не был верующим и оказался здесь только потому, что в последний момент согласился заменить товарища, которому что-то помешало ехать. Уже с год как Ферран был практикантом в одной из парижских больниц. Его очень заинтересовала поездка в Лурд при таких исключительных обстоятельствах.
Обрадовавшись свиданию, они позабыли о больном. Но сестра Гиацинта быстро спохватилась:
– Видите ли, господин Ферран, мы позвали вас к этому несчастному человеку. Одно время мы даже думали, что он умер… От самого Амбуаза он очень беспокоит нас, я только что послала за святыми дарами… Как вы находите, он очень плох? Нельзя ли ему помочь?
Молодой врач уже осматривал умирающего; остальные больные в вагоне заволновались, глядя во все глаза на происходящее. Рука Мари, державшая принесенную сестрой Сен-Франсуа чашку с бульоном, так дрожала, что Пьер должен был взять ее, чтобы накормить девушку; но она не могла допить бульон, глаза ее выжидающе следили за больным, как будто речь шла о ней самой.
– Скажите, как вы находите его, – снова спросила сестра Гиацинта, – чем он болен?
– Чем он болен? – пробормотал Ферран. – Да всем на свете!
Он вынул из кармана пузырек и попробовал разжать стиснутые зубы больного, влить ему в рот несколько капель. Тот вздохнул, поднял веки, снова опустил их, и это было все – больше он не проявлял никаких признаков жизни.
Сестра Гиацинта, обычно такая спокойная и никогда не приходившая в отчаяние, заволновалась:
– Но это ужасно! А сестра Клер Дезанж не идет! Ведь я ей точно объяснила, в каком вагоне отец Массиас… Бог мой, что с нами будет?
Видя, что ее присутствие бесполезно, сестра Сен-Франсуа решила вернуться в свой вагон. Сперва она спросила, не умирает ли человек просто от голода; это случается, вот она и пришла, чтобы предложить ему что-нибудь съесть. Уходя, ока обещала поторопить сестру Дезанж, если встретит ее; но не успела она пройти и нескольких шагов, как обернулась и указала на сестру, возвращавшуюся своей неслышной походкой, без священника.
Сестра Гиацинта, стоя в дверях, торопила сестру Дезанж.
– Скорей, идите же скорей!.. А где отец Массиас?
– Его там нет.
– Как! Его там нет?
– Нет. Как я ни спешила, пробраться быстро сквозь эту толпу не было никакой возможности. Когда я вошла в вагон, отец Массиас уже ушел – очевидно, в город.
Она объяснила, что, по слухам, отец Массиас должен был встретиться со священником церкви святой Радегонды. Прошлые годы паломники останавливались в Пуатье на сутки: больных помещали в городской больнице, а остальные отправлялись процессией в церковь святой Радегонды. Но в этом году что-то помешало устроить такое шествие и решено было проследовать прямо в Лурд, а отец Массиас, очевидно, отправился по делам к священнику.
– Мне обещали прислать его сюда со святыми дарами, как только он вернется.
Сестра Гиацинта пришла в полное отчаяние. Раз наука не может ничем помочь, быть может, святые дары облегчили бы состояние больного. Ей часто приходилось это видеть.
– Ах, сестра, сестра!.. Как я огорчена!.. Будьте так добры, вернитесь туда, дождитесь отца Массиаса и приведите его, лишь только он появится.
– Хорошо, сестра, – послушно ответила сестра Дезанж и ушла со свойственным ей серьезным и таинственным видом, как тень скользя в толпе.
Ферран все смотрел на больного, огорчаясь, что не может доставить сестре Гиацинте радость и оживить его. И когда врач безнадежно махнул рукой, она попросила:
– Господин Ферран, останьтесь со мной, пока не придет отец Массиас… Мне будет спокойней.
Он остался и помог приподнять больного, который соскальзывал со скамейки. Сестра взяла полотенце и вытерла умирающему лицо, то и дело покрывавшееся обильным потом. Ожидание продолжалось: находившимся в вагоне становилось не по себе, у дверей толпились любопытные.
Какая-то девушка, пробравшись сквозь толпу, быстро поднялась на ступеньку вагона и окликнула г-жу де Жонкьер.
– Что случилось, мама? Мы ждем тебя в буфете.
Это была Раймонда де Жонкьер, двадцатипятилетняя, чересчур пышная для своего возраста брюнетка с крупным носом, большим ртом и приятным, полным лицом, удивительно похожая на мать.
– Дитя мое, ты же видишь, я не могу оставить эту бедную женщину.
Госпожа де Жонкьер указала на Гривотту, сотрясавшуюся от кашля.
– Ах, мама, какая жалость! Госпожа Дезаньо и госпожа Вольмар с таким нетерпением ждали этого завтрака вчетвером!
– Что же делать, милочка!.. Начните без меня. Скажи им, что я приду, как только освобожусь.
Внезапно ей пришла в голову мысль:
– Подожди, здесь доктор, я попытаюсь поручить ему больную… Иди, я скоро буду. Знаешь, я просто умираю от голода!
Раймонда быстро вернулась в буфет, а г-жа де Жонкьер попросила Феррана оказать помощь Гривотте. По просьбе Марты он уже осмотрел брата Изидора, продолжавшего стонать, и снова безнадежно махнул рукой. Затем, поспешив к чахоточной, он посадил ее, надеясь остановить кашель, который в самом деле постепенно прекратился, и помог даме-попечительнице дать больной глоток успокоительного лекарства.
Присутствие врача взволновало больных. Г-н Сабатье медленно ел виноград, принесенный женой, и не обращался к доктору, заранее зная ответ, – он уже устал советоваться со светилами науки, как он выражался; все же и он приободрился, когда врач помог бедной девушке, чье соседство было ему неприятно. Даже Мари с возрастающим интересом смотрела на врача, не решаясь подозвать его: она была уверена, что он бессилен ей помочь.
Толкотня на перроне увеличилась. До отхода поезда оставалось всего четверть часа. Бесчувственная ко всему, с открытыми, невидящими глазами, г-жа Ветю дремала на солнцепеке, а г-жа Венсен, укачивая Розу, продолжала медленно прогуливаться с больной девочкой на руках, такой легкой, что мать не ощущала ноши. Многие бежали к крану, чтобы наполнить водой жбаны, бидоны, бутылки. Г-жа Маэ, женщина аккуратная и чистоплотная, хотела помыть руки, но, подойдя к крану, отшатнулась: она увидела Элизу Руке, – девушка собиралась напиться. Многие отступили, не решаясь брать воду, содрогаясь при виде этой страшной маски – головы с лицом, похожим на собачью морду, изуродованную огромной язвой, из которой высовывался язык. Множество паломников расположилось завтракать на платформе. Слышался ритмичный стук костылей – какая-то женщина без конца ходила взад и вперед. По земле полз непонятно зачем и куда безногий калека. Несколько человек, усевшись в кружок, застыли, словно изваяния. Весь этот походный госпиталь, выгруженный на полчаса, отдыхал на свежем воздухе, а кругом, под полуденным солнцем, сновала ошалелая толпа здоровых, бесконечно печальных и несчастных бедняков.
Пьер не отходил от Мари, так как г-н де Герсен исчез, привлеченный зеленеющим пейзажем, открывавшимся за станцией. Молодой священник, обеспокоенный тем, что Мари не доела бульон, попытался, улыбаясь, соблазнить больную лакомством и предложил купить ей персик, но она отказывалась: ей было очень плохо, и ничто не доставляло удовольствия. Она смотрела на Пьера своими большими, полными безысходной грусти глазами; ее раздражала эта остановка, отодвигавшая возможность исцеления, и в то же время ужасала перспектива тряски во время тяжелого, бесконечного пути.
Какой-то тучный мужчина подошел и коснулся руки Пьера. У него были чуть тронутые сединой волосы, длинная борода обрамляла широкое слащаво-благообразное лицо.
– Простите, господин аббат, не в этом ли вагоне умирает несчастный больной?
Священник ответил утвердительно, и незнакомец исполнился еще большего добродушия и дружелюбия.
– Меня зовут Виньерон, я – помощник начальника отдела в министерстве финансов и взял отпуск, чтобы сопровождать жену и сына Гюстава в Лурд… Милое дитя всю свою надежду возлагает на святую деву, и мы молимся ей денно и нощно… Мы тут, рядом, занимаем купе в вагоне второго класса.
Потом он повернулся и поманил рукой своих.
– Идите, идите, это здесь. Несчастный больной в самом деле очень плох.
Госпожа Виньерон была аккуратная мещаночка, маленькая, щуплая, с бескровным длинным лицом; сын очень походил на мать. Ему исполнилось пятнадцать лет, но на вид казалось не больше десяти; он был худ, как скелет, его высохшая правая нога безжизненно висела, и мальчик опирался на костыль. На худеньком личике, перекошенном гримасой, жили одни глаза; их взгляд, в котором светился ум, обостренный страданием, казалось, пронизывал человека насквозь.
За ними, с трудом переставляя ноги, шла старая дама с одутловатым лицом; г-н Виньерон, забывший было про нее, снова подошел к Пьеру, чтобы уж познакомить его со всеми членами семьи.
– Госпожа Шез, старшая сестра моей жены; она очень любит Гюстава и также захотела сопровождать его.
Наклонившись, он доверительно добавил тихим голосом:
– Госпожа Шез – вдова фабриканта шелков и очень богата. У нее порок сердца, это ее беспокоит.
И все семейство, сгрудившись, стало с величайшим любопытством наблюдать за тем, что происходило в вагоне. То и дело подходили новые люди; отец взял сына на руки, чтобы тому было виднее, г-жа Шез держала костыль, а мать приподнялась на цыпочки.
В вагоне все оставалось по-прежнему; больной сидел в углу, вытянувшись, прислонясь головой к жесткой дубовой перегородке. Он закрыл глаза, губы его передергивала судорога, мертвенно-бледное лицо покрывалось холодным потом, который сестра Гиацинта время от времени вытирала полотенцем; она больше не говорила ни слова, к ней вернулась ясность духа, и, ничем не выражая своего нетерпения, она уповала на бога; изредка она поглядывала на платформу, не идет ли отец Массиас.
– Смотри, Гюстав, – сказал г-н Виньерон сыну, – это, должно быть, чахоточный?
Золотушный мальчик, с искривленным позвоночником, весь в чирьях, казалось, со страстным интересом следил за агонией умирающего. Ему ничуть не было страшно, и он только улыбался бесконечно грустной улыбкой.
– О, это ужасно! – пробормотала г-жа Шез; она побледнела от страха перед смертью, всегда охватывавшего ее при мысли о внезапном конце.
– Что ж, – глубокомысленно произнес г-н Виньерон, – всякому свой черед, все мы смертны.
Какая-то странная ирония промелькнула в болезненной улыбке Гюстава, – он будто слышал иные слова, неосознанное пожелание, надежду, что старая тетка умрет раньше него и он получит в наследство обещанные пятьсот тысяч франков; да и сам он недолго будет обременять семью.
– Спусти его на землю, – сказала г-жа Виньерон мужу. – Ты утомляешь его, держа за ноги.
Она и г-жа Шез засуетились, оберегая мальчика от толчков. Голубчик, о нем все время надо заботиться! Родные каждую минуту боялись его потерять. Отец считал, что лучше всего сейчас же посадить Гюстава в вагон. И когда женщины повели его в купе, т-н Виньерон с волнением добавил, обращаясь к Пьеру:
– Ах, господин аббат, если господь бог отнимет его у нас, с ним вместе уйдет наша жизнь… Я уже не говорю о наследстве, которое перейдет к другим племянникам. Ведь это было бы противоестественно – он не может умереть раньше тетки, особенно если учесть состояние ее здоровья… Что делать? Все в божьей воле, а мы уповаем на святую деву; уж, конечно, она сделает так, чтобы все было к лучшему.
Наконец г-жа де Жонкьер, успокоенная доктором Ферраном, оставила Гривотту на его попечении. Однако, уходя, она сказала Пьеру:
– Я умираю от голода, побегу на минуту в буфет. Только прошу вас, если моя больная снова раскашляется, придите за мной.
С большим трудом перейдя платформу, она снова попала в толчею. Более состоятельные паломники с бою заняли в буфете все столики; особенно торопились священники, их было очень много; кругом стоял стук ножей, вилок и посуды. Три или четыре официанта разрывались на части, не успевая подавать; им мешала толпа, теснившаяся возле стойки, покупая фрукты, хлебцы, холодное мясо. Там-то за столиком, в глубине залы, и завтракала Раймонда в обществе г-жи Дезаньо и г-жи Вольмар.
– Ах, мама, наконец-то! Я хотела опять идти за тобой. Надо же тебе поесть!
Девушка оживленно смеялась, радуясь дорожным приключениям и этому скверному завтраку на скорую руку.
– Я тебе оставила порцию форели с подливкой и котлетку… А мы уже едим артишоки.
Завтрак прошел чудесно. Приятно было смотреть на эту беззаботную компанию.
Особенно очаровательна была молоденькая г-жа Дезаньо, нежная блондинка с копной золотистых волос и молочно-белым круглым личиком с ямочками, смеющимся и добрым. Она была замужем за богатым человеком и три года подряд, оставив мужа в Трувиле, сопровождала в середине августа паломничество в качестве дамы-патронессы: она страстно увлекалась этим, ее охватывала трепетная жалость, потребность в течение пяти дней всецело отдавать себя больным; она делала это от всей души и возвращалась разбитая от усталости, но довольная. Ее единственное огорчение состояло в том, что у нее не было ребенка, и она иногда с комической горячностью сожалела, что не знала раньше о своем призвании сестры милосердия.
– Ах, милочка, – с живостью сказала она Раймонде, – не жалейте, что вашу мать так поглощает забота о больных. По крайней мере у нее есть дело.
И, обращаясь к г-же де Жонкьер, она продолжала:
– Если б вы знали, как долго тянутся часы в нашем прекрасном купе первого класса! Нельзя даже заняться рукоделием, это запрещено… Я просила, чтобы меня поместили с больными, но все места оказались заняты, и этой ночью мне только и остается, что спать в своем углу.
Рассмеявшись, она добавила:
– Ведь мы заснем, госпожа Вольмар, правда? Разговор утомляет вас!
Госпоже Вольмар, брюнетке с продолговатым, изможденным и тонким лицом, было за тридцать; по временам ее прекрасные, большие, горящие, как уголь, глаза словно заволакивались пеленой и как будто угасали. С первого взгляда г-жа Вольмар не казалась красивой, но в ней было что-то волнующее и покоряющее, что-то вызывавшее в мужчинах страстное желание. Впрочем, она старалась не привлекать к себе внимания; женщина скромная, она одевалась всегда в черное и не носила драгоценностей, хотя была женой ювелира.
– О, – пробормотала она, – лишь бы меня не трогали, больше мне ничего не надо.
В самом деле, г-жа Вольмар уже дважды ездила в Лурд в качестве дамы-помощницы, но ее ни разу не видели в Больнице богоматери всех скорбящих – она так уставала с дороги, что, по ее словам, не в состоянии была выйти из комнаты.
А начальница палаты, г-жа де Жонкьер, относилась к ней чрезвычайно снисходительно.
– Ах, боже мой! У вас хватит работы, мои милые. Спите, если можете, вы замените меня, когда я свалюсь с ног. А ты, душечка, – обратилась она к дочери, – не волнуйся слишком, а то совсем потеряешь голову.
Но Раймонда, улыбаясь, с упреком посмотрела на нее.
– Мама, мама, зачем ты так говоришь?.. Разве я не достаточно благоразумна?
Она не хвасталась, ее серые глаза выражали твердую волю, решимость самой устроить свою судьбу, несмотря на беспечность молодости, просто-напросто радующейся жизни.
– Это верно, – немного смущенно призналась мать, – моя девочка иногда более практична, чем я… Ну-ка, дай мне котлетку, она очень кстати! Боже, как я голодна!
Завтрак продолжался, г-жа Дезаньо и Раймонда вносили в него оживление своим беспрерывным смехом. Девушка развеселилась, ее лицо, слегка пожелтевшее в ожидании замужества, приобрело свежие краски. Ели за обе щеки, потому что времени оставалось только десять минут. Шум в зале усилился, пассажиры боялись, что не успеют выпить кофе.







