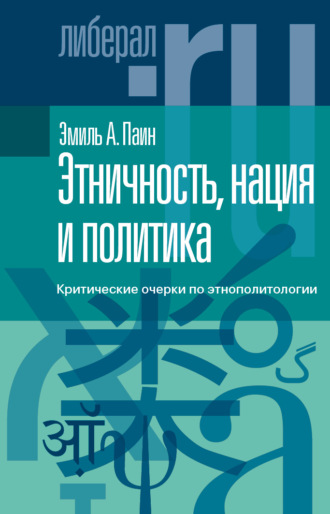
Эмиль Паин
Этничность, нация и политика. Критические очерки по этнополитологии
На мой взгляд, наиболее авторитетной ныне является концепция нации Бенедикта Андерсона. В ней идеи конструктивизма органично переплетаются с историко-эволюционным подходом, иногда трактуемым как примордиализм. Начнем нашу краткую характеристику концепции этого британского ученого с ее конструктивистских аспектов. Андерсон, хотя никогда не называл себя конструктивистом, внес огромный вклад в развитие этого направления уже тем, что предложил чрезвычайно яркую и запоминающуюся конструктивистскую метафору – «воображаемое сообщество» (imagined community). По утверждению ученого, «все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а может быть, даже и они), – воображаемые»143. Иначе говоря, люди воображают себя частью сообщества, не имея возможности ощутить это через непосредственные контакты. Особенность нации как сообщества в том, что это политическое сообщество, скрепленное представлением людей об их участии в свободном самоопределении в «своем» суверенном государстве.
Концепция «воображаемого сообщества» дополнила конструктивистские подходы Э. Хобсбаума об «изобретенных традициях» и идеи Э. Геллнера о взаимосвязи культурного строительства и экономической модернизации в развитии наций и национализма. При этом Б. Андерсон не ограничился выдающейся метафорой, а показал широкий комплекс механизмов воображения (конструирования) нации с помощью книгопечатания, создания музеев, проведения переписей населения, картографии территорий и др. Его концепция изложена в книге «Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма». Упоминание об истоках национализма в названии этой монографии указывает на использование в ней историко-эволюционного метода исследования и на ее научный предмет: изучение эволюции национализма и наций в эпоху модерна. Подход Андерсона к этому предмету весьма своеобразен. Для него национализм – это явление такого же масштаба, что и религия, политическая роль которой в сплочении подданных государя ослабевала в эпоху становления демократии Нового времени, поэтому вытеснялась национализмом как комплексом идей о ведущей роли нации (народа) в управлении государством и представлением о том, что государственная власть не дарована Богом его помазанникам, монархам, а достигается волей суверенной нации (народа). Развитие национализма и становление на его основе наций проявляется в культуре, например в процессе вытеснения из политической жизни элитарного языка религий (латыни или санскрита) народными, этническими языками, приобретающими статус государственных.
Методология Б. Андерсона не ограничивается конструктивизмом, поскольку предполагает, что нация, «будучи однажды воображенной», затем транслируется, наследуется и трансформируется следующими поколениями, и в этом тезисе его позиция близка к подходу примордиалистов. Андерсон подчеркивал, что нации не только воображаются людьми, но и складываются исторически как объективная реальность под влиянием ряда факторов, важнейшим из которых он считал «печатный капитализм» (print capitalism), позволивший распространить этнический язык одного из народов на все государство-нацию. Эта мысль близка идеям Геллнера и одновременно методологии эволюционизма. Андерсон разъяснял очень важную особенность своей концепции: то, что сообщества «воображаемые», не означает, что они мнимые или ложные. «Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются»144. Нации как воображаемые политические сообщества в то же время реальны, поскольку такая реальность, по мысли Андерсона, определяется:
– реальной историей их возникновения в процессе модернизации и «печатного капитализма»;
– наличием таких неотъемлемых и конкретных качеств нации, как территориальная определенность (в границах государства) и суверенность;
– наличием горизонтальных связей в социальном сообществе, названных Андерсоном «товариществом», более значимым в какие-то моменты, чем социально-имущественные и другие статусные различия между членами единой нации;
– психологическими последствиями: люди «готовы умирать и убивать» за эти воображаемые сообщества.
Осознание необходимости поиска более плюралистических методологий, чем изолированные примордиализм и конструктивизм, в изучении наций и этничности стало заметным уже в 1990‐х годах. Тогда известный социальный антрополог Дж. Комарофф предложил свою концепцию «неоконструктивизма», объединявшего идеи примордиализма об инерционности культурных явлений с идеями конструктивизма145. Поиск условий синтеза разных подходов приобрел еще большую популярность в 2000‐х годах. В 2004 году автор этой книги высказывал такую идею146, а 10 лет спустя свой синтетический подход предложил М. Барбашин147. Позднее мы с С. Федюниным раскрыли смысл «синтеза» в анализе этнокультурных и национально-политических процессов. На наш взгляд, синтетический подход к изучению этнических, межэтнических и национальных процессов можно назвать также плюралистическим, поскольку он предполагает сочетания не двух, а нескольких методологических принципов, по крайней мере таких, как конструктивизм, теории традиций и концепции социально-политического институционализма148.
Новая трактовка основных понятий этнополитологии
Принятие методологии синтеза основных подходов в этнологии позволяет сделать обобщающие выводы относительно трактовки основных ее понятий.
Нация. Наиболее распространенная и признанная мировыми экспертами дефиниция нации состоит в том, что это «политическое сообщество граждан государства разной этнической, расовой, религиозной и другой идентичности, осознающих свое национально-гражданское единство, свои гражданские права и свою ведущую роль в политической системе государства в качестве его суверена – источника власти»149. Эта дефиниция хорошо согласуется с идеями Б. Андерсона, Р. Суни и К. Калхуна.
В основном нации представляют собой современные формы политических сообществ, которые состоят из людей, предполагающих, что в силу некоторых общих характеристик… <…> Они имеют право на самоопределение, право управлять собой и обладать их предполагаемой «национальной» родиной150, —
пишет Рональд Суни. Крейг Калхун перечисляет следующие базовые гражданско-политические основания нации в качестве идеальной модели:
– народный суверенитет: «участие народа в коллективных делах – народная мобилизация на основе принадлежности к нации (в военной или гражданской деятельности)»;
– «прямое членство, когда каждый индивид считает себя непосредственно частью нации и в этом смысле категориально эквивалентным другим членам»;
– «идея о том, что правление является справедливым только тогда, когда оно опирается на волю народа или, по крайней мере, служит интересам „народа“ или „нации“»; и ряд других151.
Политическая проекция нации в современных теориях сочетается с культурной и отражает роль этнического фактора нации в использовании ею этнического (национального) языка. О его роли пишет Р. Суни, ссылаясь при этом на идеи Б. Андерсона и подчеркивая, что язык является: 1) средством, при помощи которого «воссоздается прошлое, воображаются общности и грезится будущее»; 2) основным выражением «народности нации», соединяющей ее с народной, этнической культурой; 3) «фундаментом примордиальности» для нации, в том смысле, что язык не конструируется нацией, а почти всегда наследуется из прошлого152. Р. Суни использует термин «примордиальность» как признак того, что это не сконструированный элемент, а полученный в результате исторической трансляции этничности. Вместе с тем Суни, как и подавляющее большинство современных академических специалистов в области теории наций, не сомневается в том, что этничность не играет главенствующей роли в функционировании и развитии современных наций, как правило многоэтничных. Нации являются прежде всего социально-политическими конструктами. Нации, в отличие от этноса, жестко политически привязаны к территории государства, выступая его сувереном. Они – продукт повседневного политического самоопределения граждан государства, основывающегося главным образом на синхронных, горизонтальных общественных отношениях, постоянно обновляющихся и проверяющихся в процессе, который Эрнест Ренан назвал «повседневным плебисцитом».
Национализм. Долгое время в России преобладало сугубо этническое определение этого понятия, отождествляющее национализм с ксенофобией и шовинизмом и связанное с заведомо негативной его общественной оценкой. Например, в толковом словаре Ожегова дается следующая трактовка этого понятия: «идеология и политика, исходящая из идей национального превосходства и противопоставления своей нации другой»153. Ныне при всем разнообразии подходов к определению этого понятия национализм трактуется в европейской традиции, восходящей к Э. Ренану, как форма идеологии и направление в политике, в основе которых лежит признание ценности нации как высшей формы общественного единства и основы для образования государства154. При гражданско-политической трактовке нации национализм лишен негативной коннотации. К тому же мы, как и большинство современных исследователей, считаем принципиально невозможной однозначную трактовку национализма и оценку его позитивных или негативных сторон в силу необычайной многозначности этого термина155.
«Этнос», «этния» (ethanee) и «этническая группа» (ethnic group). Все эти термины приемлемы с научной точки зрения, а приоритетность их использования определяется как предпочтением конкретного исследователя, так и особенностями научных традиций разных стран мира. Понятие «этния» в англоязычных научных публикациях использовали Энтони Смит и Пьер Ван ден Берге, но чаще всего этот термин встречается в литературе на французском и испанском языках, тогда как исследователи англосаксонских стран и Германии в последние годы обычно оперируют понятием «этническая группа» (ethnic group)156. В научной и учебной литературе современной России и большинства других государств, возникших на территории бывшего Советского Союза, широко используется понятие «этнос»157. Оно применимо в государственной статистике, особенно для учета динамики этнических общностей, сохранивших свое самоназвание, и в законодательстве, затрагивающем коллективные права этнических общностей. Понятие «этнос» предлагается в качестве основной единицы анализа межэтнических отношений и в учебном пособии, подготовленном при участии автора данной монографии158.
Под этносом понимается исторически сложившаяся социально-культурная общность людей, характеризующаяся следующими основными признаками:
– этнонимом (самоназванием); его следует отличать от эпонима – названия, данного внешним наблюдателем и зачастую имеющего негативную окраску. Например, самоназвание основной этнической общности Германии – «дейтч», русские люди дали ей эпоним «немцы», который происходит от презрительной клички «немые» (не говорящие по-русски). Существует еще и политоним – название всех жителей страны, например «россияне» – жители России с разными этническими самоназваниями («русские», «татары», «чеченцы» и др.);
– устойчивыми представлениями (как правило, мифологизированными) об общем происхождении народа. Например, у евреев оно связано с библейским мифом о том, что все они – потомки двенадцати колен (племен), имеющих общего предка Иакова (Израиля), а у итальянцев – с комплексом легенд, в том числе с легендой о братьях Ромуле и Реме, вскормленных волчицей;
– историческими представлениями об общей территории. Связь этноса с территорией, по мысли Э. Смита, является не прямой, а ассоциированной и может сохраняться и в отрыве от исторической родины159.
На наш взгляд, в современном мире должно возрастать понимание значительной роли этничности в национальной проблематике, особенно в условиях, когда заметна политическая мотивировка предложения «забыть об этничности», прикрывающего собой стремление к отторжению территорий соседних государств с якобы нелегитимной этнической историей.
Энтони Смит отмечал, что, как бы мы ни трактовали сущность нации: в традиционно британском варианте (как все население государства) или в ее более позднем гражданском толковании, – в любом случае в нации будут присутствовать этнические компоненты, поскольку этническая история страны так или иначе отражается в современных нациях160. В своей книге «Этническое происхождение нации» Э. Смит определяет нацию как синтетическое явление, соединяющее гражданство, этничность и политическую территорию.
Еще одна важная новация Э. Смита состоит в его предположении о различии роли конструирования по отношению к нации, с одной стороны, и к этническим сообществам – с другой. По отношению к последним («этносу» или «этнии») конструирование не выступает основным фактором их формирования и поддержания. Э. Смит отмечал, что этничность, разумеется, не отгорожена от процессов социального конструирования: ее элементы выстраиваются, перестраиваются и порой откровенно выдумываются, тем не менее этнические общности в течение многих веков, а иногда и тысячелетий сохраняли свою особую этническую идентичность161. Человек не конструирует для себя этнический язык, он получает его в детстве в семье (даже когда с детства осваивается несколько «родных языков», скажем язык отца и матери); человек не изобретает этноним и первичный комплекс таких представлений, как, например, миф об общем происхождении, этнические символы, привычки, обычаи, – все это люди и общности получают от рождения.
Эмиль Дюркгейм назвал такое наследие коллективными представлениями, имеющими сходное и в какой-то мере нормативное значение для всех членов социальной общности162. Свою концепцию Э. Дюркгейм обосновал в 1912 году, а век спустя К. Калхун развил эту идею, отчасти дискуссируя с радикальным конструктивизмом:
Многие отличительные особенности национальных культур, например, язык, не создаются индивидами. Скорее индивиды становятся личностями в социальных отношениях, которые уже сформированы культурой. Отрицать реальность или важность этих наблюдений неразумно163.
Человек, причисляющий себя к той или иной этнической культуре, получает доступ к ее коллективной исторической памяти. Со временем индивид может измениться, перестроить свою систему идентификации, однако при отсутствии политики насильственной ассимиляции (целенаправленного растворения меньшинств) и признаков государственного притеснения по этническому признаку этническая идентичность оказывается весьма устойчивой и сохраняется у основных этнических общностей с детских лет и до конца жизни. Эта добровольная самоидентификация хорошо проявляется в жизни почти 200 народов постсоветской России.
Этничность. Для обозначения этнокультурного единства представителей одного и того же народа-этноса, независимо от места проживания людей, идентифицирующих себя с этим народом, Ю. В. Бромлей предложил термин «этникос»164. В современной этнологии в этих же целях используется другой термин – «этничность» (ethnicity). Существует множество трактовок этого понятия, в соответствии с которыми изменяются основные признаки этничности, хотя, на наш взгляд, чаще всего ее рассматривают как:
– форму этнической самоидентификации человека, осознания им своей связи с определенным этническим сообществом. В этом качестве «этничность» может быть синонимом термина «национальность» (nationality), использовавшегося во времена сугубо этнической трактовки понятия «нация» и сохранившегося до настоящего времени в речевой практике и терминологии государственного управления;
– набор культурных маркеров, помогающих отличать свои и другие этнические общности. В качестве маркеров могут выступать: язык, этнонимы, топонимы, символы и др.;
– проявление не только идентичности, но и более широкого самосознания этнических групп, производного от используемых культурных традиций, устойчивых представлений и стереотипов.
Один из самых авторитетных российских этносоциологов Л. М. Дробижева трактует это понятие еще шире. По ее мнению, этничность соединяет в себе самосознание и поведение людей, а именно:
Этничность – это не только этническая идентичность, этническое самосознание людей, но и реальное следование специфическим формам поведения, особенностям в видении и восприятии мира165.
Определение основных категорий этнологии – нация, этнос и этничность – позволяет перейти к анализу других аспектов этнополитического развития.
4. Этнополитические процессы: новые подходы к анализу
Усилиями ученых разных направлений и научных дисциплин неполнота знаний о современных этнополитических проблемах уменьшается, хотя зона непознанного и необъясненного (точнее, неадекватно объясненного) все еще велика. Так, остается дискуссионным и малоизученным вопрос о стратегическом направлении развития этнополитических процессов и о целях этнической политики.
О классификации этнополитических процессов
На мой взгляд, наиболее полную классификацию этнических и этнополитических процессов и наиболее удачные индикаторы для различения их многочисленных разновидностей дал в свое время академик Ю. В. Бромлей. Показательно, что советский ученый, так же как большинство зарубежных исследователей, использовал в качестве наиболее общей формы классификации этнических и этнополитических (национальных) процессов их отнесение к двум основным классам – объединительным (интеграционным) и разделительным (дезинтеграционным или дивергентным)166.
Разделительные (дивергентные) процессы, в свою очередь, могут быть классифицированы. В них различают два основных подвида:
– во-первых, это этническая парциация, при которой единый прежде этнос делится на несколько более или менее равных частей, причем ни один из новых этносов не отождествляет себя полностью со старым этносом;
– во-вторых, этническая сепарация, подразумевающая случаи, когда от какого-то народа отделяется его часть167.
На этнополитическом, национальном уровне проявляется также такой вид дивергенции, как сепарация (сепаратизм), выражающийся в формировании национально-политических движений, выступающих за отделение некой этнополитической территории из состава полиэтнического государства.
Этнообъединительные процессы неоднородны и включают в себя:
– этническую (точнее сказать, внутриэтническую) консолидацию как процесс слияния нескольких родственных по языку и культуре этнических единиц в одну новую, более крупную этническую общность;
– этническую ассимиляцию, т. е. процесс растворения небольших групп (или отдельных представителей) одного народа в среде другого и полную или почти полную утрату такой группой исконных этнических свойств и столь же полное усвоение новых;
– межэтническую интеграцию – появление новой этнокультурной и социально-политической общности, при сохранении основных этнических черт у основных этнических единиц взаимодействия. С такого рода процессами и связано формирование в рамках многонациональных (полиэтнических) государств межэтнических или метаэтнических национальных общностей168.
Именно интеграционные процессы, обеспечивающие как сохранение основных черт культурной этнической самобытности народов, так и социокультурное и социально-политическое сближение народов, стали основным направлением национальной политики («нациестроительства») в современном мире. Интеграционные процессы не являются чисто этническими, поскольку связаны прежде всего с политическим сближением народов внутри государств или на межгосударственнном уровне, и в западной науке уже с конца 1970‐х годов подобные процессы стали именовать «этнополитическими»169.
В Советском Союзе этот термин не приживался, и академик Ю. В. Бромлей использовал в указанных целях другое понятие – «межэтническая интеграция»170. Термин «межэтническая интеграция» как часть более широкого понятия «межэтнические отношения» и сегодня чрезвычайно распространен в российской этнополитологии и политической практике. В «Стратегии государственной национальной политики до 2025 года» дается следующе определение: «Межнациональные (межэтнические) отношения – взаимодействие людей (групп людей) разных национальностей (разной этнической принадлежности) в различных сферах трудовой, культурной и общественно-политической жизни Российской Федерации, оказывающих влияние на этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации и гражданское единство»171. Это определение, на наш взгляд, нуждается в уточнении. Во-первых, необходимо указать, что взаимодействие между людьми разной этнической принадлежности можно считать межэтническими отношениями только в случае «активизации этничности» – осознания участниками взаимодействия значимости этнических различий. Например, пассажиры автобуса разной этнической принадлежности могут и не замечать свои этнические различия, и в этом случае их отношения не являются межэтническими, но они превратятся в межэтнические в случае проявления социальной границы (по Барту). Скажем, если кто-либо из пассажиров осознает обстоятельства поездки (тесноту, давку, взаимные оскорбления или просто незнакомый язык других пассажиров и т. д.) как следствие этнических различий между пассажирами.
Мы предлагаем следующее определение: межэтнические отношения – это форма группового взаимодействия между людьми разной этничности, осознающих свои культурные различия и субъективно переживаемую социальную границу между «мы» и «они»172. Само это осознание составляет суть межэтнических отношений, будь то конфронтация или диалог, партнерство и согласие. Во-вторых, признавая определенную пользу параллельного использования старого советского термина «межнациональные отношения» и нового «межэтнические отношения» (учитывая советскую привычку использования первого термина), важно подчеркнуть, что в современных условиях эти термины вовсе не синонимы, они означают разные, хотя и взаимодополняющие явления. Если в Стратегии в качестве нации обозначено понятие «российская нация», то межнациональными следует называть ее отношения с представителями других наций такого же таксономического уровня, например американской, французской или индийской. Внутри каждой нации проявляются межэтнические отношения.
Но вернемся к классификации «межэтнической интеграции», предложенной Бромлеем. Академик предлагал различать разновидности (подвиды) такой интеграции в зависимости от типа политических отношений, складывающихся между этническими общностями в процессе их сближения. Он выделял следующие типы интеграции:
а) консоциационный, описывающий взаимодействие равноправных и независимых в политическом отношении этносов;
б) симбиозный, при котором имеет место взаимодополняющая ассоциация зависимых друг от друга этнических единиц;
в) сегрегационный, относящийся к случаям взаимодействия народов, находящихся в условиях политического неравноправия, этнической дискриминации173.
Предложенная Бромлеем классификация этнических и этнополитических процессов, в том числе и детальная классификация этнополитической интеграции, до сих пор в целом благожелательно принимается большинством этнополитологов, по крайней мере, мне незнакома серьезная критика этой классификации. На мой взгляд, ее единственный недостаток лишь в том, что она слабо описывает механизмы интеграции. Бромлей, который и сам осознавал, что такая интеграция является преимущественно социально-политическим процессом (отсюда и его сугубо политологическая классификация подвидов межэтнической интеграции), тем не менее смог обозначить лишь сугубо культурологические компоненты этого процесса. Мы попытаемся использовать классификационную матрицу Ю. В. Бромлея, наполнив ее новым содержанием.
Объединительные (интегративные) процессы
Интеграция (от лат. integratio – соединение) – объединение частей в целое. Такое объединение в этнонациональной сфере может включать в себя весьма разнородные и, как правило, длительные, поэтапные процессы:
1) сближение нескольких народов в рамках единого федеративного государства, с сохранением основных признаков этничности у каждого из них (особый язык, самосознание, самоназвание) или включение мигрантов разной этничности в систему политических и социально-экономических отношений сложившейся политической нации, но также с охранением у мигрантов основных этнокультурных признаков. В «Стратегии государственной национальной политики» принята концепция «гражданской интеграции», при которой целостность нации рассматривается как «единство в разнообразии», сохранение возможностей для культурного разнообразия и недопущение дискриминации людей разной этнической принадлежности;
2) слияние разных этнических общностей в новую этническую общность (например, объединение в единый древнерусский народ полян, древлян, дреговичей) и появление у возникшего этноса новых культурных качеств, в разной мере воспринятых у создавших его народов;
3) растворение одного этноса в другом, как правило более многочисленном, с утратой этнического языка, самоназвания и самосознания; этот процесс называется ассимиляцией, которая также весьма разнородна по своим проявлениям.
России в наследство от СССР досталось два типа социального взаимодействия русского и нерусского населения174. Первый можно условно назвать сегрегационным, второй – конкурирующим. В первом случае четко выражена разделенность национальностей, как, например, в Республике Саха (Якутии). Здесь этнические саха (якуты) в наибольшей мере представлены в сфере управления, здравоохранения, просвещения, науки, культуры и искусства. Русские же заняты преимущественно в сфере индустрии, добывающей промышленности, имеют значительно большую долю рабочих и меньшую – управленцев. Аналогичная ситуация сложилась в Туве, Дагестане, в Карачаево-Черкесской и в ряде других республик.
Другой тип социального взаимодействия, конкурирующий, характерен для более или менее сходных структур занятий у титульных народов республик и русских, когда они в одинаковой мере претендуют на одни и те же рабочие места. В наибольшей степени это проявилось в Татарстане: в большинстве отраслей, за исключением сельского хозяйства, где преобладают специалисты-татары, примерно поровну представлены обе основные национальности. В 1989 году среди специалистов и руководителей производства татар было 45%, русских – 50%; работников партийно-государственного управления – 47,6 и 47%; учителей и врачей – 43 и 49%; художественно-творческой интеллигенции – 44 и 47% соответственно. Русские преобладали (53 против 38%) только среди работников хозяйственного управления, но, по последним выборочным исследованиям, и здесь татары представлены практически вровень с русскими175.
О перспективах обеих моделей спорят ученые и в России, и в мире. При сегрегационной модели, с одной стороны, этнические группы занимают «свои ниши», взаимно дополняют друг друга и заинтересованы во взаимодействии, а с другой – различия в отраслевой занятости связаны с неравенством в оплате труда, условиях трудовой деятельности, получении материальных благ и социального престижа, доступе к власти. Поэтому не исключено, что конкурирующая модель оказывается нередко более перспективной и позитивной. Во всяком случае, при этом в социальной сфере люди разных национальностей переживают общие трудности и радости, могут лучше понять другого. Примером может служить конкурирующая модель межэтнического взаимодействия в Татарстане, которая выдержала испытание экономическим кризисом 1998 года и ни разу не сопровождалась групповыми столкновениями или другими проявлениями.
Ассимиляция (лат. assimilatio – уподобление, усвоение, растворение). По определению В. А. Тишкова, этническая ассимиляция – это
частичная или полная утрата культуры в пользу другой, обычно доминирующей культуры, включая и смену этнической идентичности. <…> Ассимиляции подвергаются прежде всего малочисленные группы с приниженным социальным и политическим статусом <…> В России ассимиляция происходит главным образом в пользу русской культуры и языка.
Далее автор говорит о том, что преобладающей является ассимиляция добровольная, но реже она
может осуществляться и через структурное или прямое насилие, когда государство препятствует распространению языка и других форм культуры этнических меньшинств и даже отказывает им в признании и в предоставлении гражданских прав (например, курды в Турции и Ираке)176.
Отметим, что и ненасильственная ассимиляция, как правило, вынужденная, поскольку вытеснение из сознания человека этнической идентичности, усвоенной в детстве, всегда вызвана некой внешней необходимостью – экономической или социальной, поэтому ассимиляция характерна преимущественно для этнических меньшинств и особенно для мигрантов.
Для истории России последних двух веков нехарактерна полная ассимиляция этносов, завершающаяся утратой ими самоназваний (этнонимов). Даже такие этнические общности, как евреи, немцы, поляки, финны и греки, – численность которых в России быстро сокращалась в XX веке в результате иммиграции многих тысяч людей в страны, именуемые «исторической родиной», – все же сохранили свои небольшие российские диаспоры (этнические группы, проживающие за пределами территорий государств, на которых исторически сформировались этносы). Меньше других подвержены ассимиляции представители малочисленных автохтонных народов, имеющих в России свою этническую территорию. Частичная ассимиляция таких общностей, например забвение родного языка значительной частью его носителей, встречается чаще. Тем не менее, по данным переписи населения России 2010 года, во всех ее республиках не менее двух третей представителей народа, давшего название республике, владеют родным этническим (национальным) языком, даже составляя меньшинство населения в своей республике. Наименьшая доля людей, владеющих языком своей национальности, отмечена среди коми – 65% в Республике Коми, удмуртов – 67% в Удмуртской Республике и мордвы – 71% в Республике Мордовия177. Вместе с тем у представителей этих же народов, проживающих за пределами своих этнических территорий, степень утраты знания своего национального языка и этнического самосознания намного выше.
Мигранты (лица, сменившие место жительства), особенно те из них, которые ориентированы на постоянное проживание в новой этнокультурной среде, в наибольшей мере готовы к ассимиляции, по крайней мере к частичной утрате навыков традиционной этнической культуры и освоению новой культуры, прежде всего ее языка. Мигранты разных национальностей в новых условиях, приспосабливаясь к принимающему сообществу, демонстрируют неизмеримо большую готовность к вступлению в межэтнический брак, чем у себя на родине. В Эстонии не более 10% эстонских мужчин вступают в межэтнические браки, а в России 94% всех супружеских пар с участием эстонских мужчин – межэтнические; у литовцев и латышей этот показатель в России еще выше – 97%178. Вместе с тем доля межэтнических браков снижается по мере роста в стране численности мигрантов той или иной этничности, поскольку в этом случае увеличивается выбор невест и женихов среди этнически «своих». Такую тенденцию демонстрируют переселенцы из числа народов Средней Азии, составляющие в последние десятилетия наибольшую долю прироста мигрантов в Российской Федерации. За период между переписями 2002 и 2010 годов, по мере увеличения в России численности узбеков, таджиков и киргизов, доля межэтнических пар в их среде уменьшилась: у узбеков – с 78 до 53%; у таджиков – с 70 до 56%, а у киргизов – более чем вдвое, с 42 до 20%179. Само же стремление к моноэтническим бракам обусловлено преимущественно рациональным выбором, прежде всего стремлением к сохранению привычного стиля жизни в семейной повседневности (родного языка в общении, этнических традиций, например пищевых), а также большим доверием к «своим» невестам и женихам.




