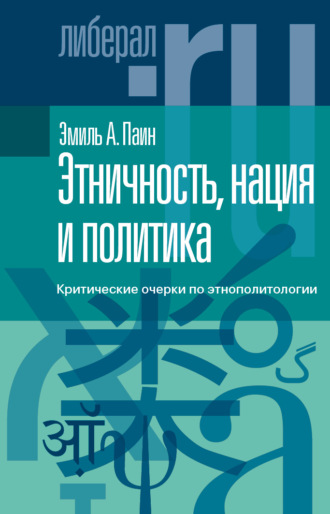
Эмиль Паин
Этничность, нация и политика. Критические очерки по этнополитологии
«Реалистические конструктивисты» признают реальное существование этничности, однако вслед за Максом Вебером полагают, что не кровные связи, а общественное сознание задает, «конструирует» реальное бытование этничности. Т. Эриксен, автор одной из лучших, на мой взгляд, работ по теории этничности, пишет:
Этничность – аспект социального взаимодействия между людьми, считающими себя культурно отличными от других групп, с которыми у них поддерживается минимум регулярных контактов. Это социальная идентичность, характеризующаяся метафорой родства или фиктивным родством105.
Огромное влияние на развитие идеи конструктивизма в сфере этничности оказали взгляды Фредрика Барта, норвежского исследователя, в последние годы жизни работавшего в американских университетах. Во введении к сборнику «Этнические группы и социальные границы» и других своих работах Барт сформулировал основные признаки классического конструктивистского подхода к этничности106:
– этничность рассматривается как форма социальной организации культурных различий, как «конструкт», результат социально разделительных и объединительных процессов;
– «социальные границы» – это важнейшая находка Барта, характеризующая появление в сообществе групп, противопоставляющих себя другим по принципу «мы – они», «свои – чужие». Нередко в истории политические границы рассекали единую этническую общность и вследствие такого раскола начинали формироваться новые культурные особенности. Например, деление единого раннеславянского сообщества на подгруппы восточных, западных и южных славян привело к конструированию новых языковых и других культурных свойств. Точно так же в дальнейшем, уже в процессе разделения восточных славян на русских, украинцев и белорусов, формировались новые комплексы культурных различий, закреплявшие сложившиеся социальные границы;
– поскольку социальные границы конструируются и реконструируются, то принадлежность индивида к этнической группе, как и к социальной, не задана раз и навсегда, она подвижна; подвижными, текучими, «дрейфующими» являются, по мысли конструктивистов, и этнические идентичности;
– этничность рассматривается как ситуативный феномен, создаваемый средствами символического различения, «этническими маркерами», позволяющими различать «своих» и «чужих». В этом качестве могут выступать разные элементы культуры, прежде всего язык.
Исследования конструктивистов показали следующее: во-первых, этнокультурные особенности социальных сообществ находятся в постоянном изменении; во-вторых, они вовсе не тотально присущи всем представителям общности, объединяемой общим названием и идентичностью. Даже в небольших по численности и высокосплоченных этнических группах заметны индивидуальные различия: в прочности этнической идентичности, освоении культурных традиций, проявлении этнической солидарности и др. Эти различия во многом обусловлены социальной, образовательной, гендерной и иной стратификацией общества. Представление о некоем едином «психическом складе» этноса или нации ошибочно и относится к числу предрассудков, опасных тем, что они могут порождать настроения ксенофобии (неприятия «чужаков»).
Итак, сторонники реалистического конструктивизма, последователи Ф. Барта, полагают, что этничность – это форма социальной реальности, воспринимаемая большинством людей исключительно как внешняя данность, однако в действительности она во многом сконструирована людьми, и процесс такого созидания (конструирования) этничности носит непрерывный характер.
Инструментализм политологов
Одним из ответвлений конструктивизма являются инструменталистские трактовки этничности. Это направление сложилось в политологии, более того, первоначально именно инструментализм служил основой представлений об этнической политологии у зачинателей этой научной дисциплины – Дж. Ротшильда и П. Брасса, которые рассматривали этничность исключительно как идеологию, создаваемую элитой для мобилизации масс и достижения собственных интересов в борьбе за власть107. Инструментализм нередко опирается на социально-психологические теории, в которых этничность трактуется как эффективное средство для преодоления отчуждения, восстановления попранной национальной гордости, как социальная терапия и т. п. Существенной чертой всех инструменталистских теорий является их опора на функционализм и утилитаристские ценности. В этой группе концепций существование этнических общностей нередко объясняется с позиций социологического функционализма: этнические группы существуют и служат определенным целям, соответствуют конкретным интересам, создавая определенный психологический комфорт для человека. Например, позволяют справиться с проблемой отчуждения, порождаемой индустриальным обществом с его массовой культурой, и таким образом выстроить «свой дом» и «свой мир», сделать этот мир комфортным, подчинить его власти своих традиций, где окружающие тебя «другие», которые вместе с тобой переживают кризис отчуждения, претворяются в результате этой сопричастности в «своих», участников строительства «своего дома». Эта концепция этничности как способа преодоления отчуждения отстаивается психологами и теми социологами, методы которых предполагают знание и использование социально-психологической теории.
В эту же группу можно включить и тех исследователей, которые полагают, что этничность позволяет справиться с информационной сложностью современной жизни, «разгрузить» психику от разнотипных информационно-избыточных «сигналов», каким-то образом упорядочив их. Классифицируя людей по их этнической принадлежности, индивид получает возможность «упростить» получаемую информацию, разделив всех на «своих» и «чужих». Это позволяет существенно упростить взаимодействие, сводя его к известному репертуару стереотипных ролей и ситуаций.
По мнению Вернера Соллорса, этничность – это всего лишь процесс постоянного определения и подтверждения индивидуальной и групповой идентичности108. Этничности как процессу уделяют основное внимание современные западные течения в политологии, социологии и социальной антропологии. При этом одним из основных содержаний этого процесса признается так называемый «дрейф этничности», т. е. смена этничности или ее ослабление, например в соответствии с моделями, которые еще в середине 1970‐х годов выстроил известный американский психолог и антрополог Абрамсон109. Он выделил четыре типа социальных групп, в разной степени освоивших этничность.
К первому типу, «традиционалистам», принадлежат люди, которые полностью разделяют ценности данной этнической группы и интегрированы в ее структуры.
Второй тип, «пришельцы-неофиты», составляют люди, которые включены в структуру этнических связей, но не имеют унаследованных корней, соответственно их культурноценностное единство с группой носит неглубокий внешний характер. Чаще всего это представители ассимилированных групп или люди, вошедшие в «чужую» этническую культуру вследствие заключения межэтнических браков, реже – это представители диаспоральной части этноса, культурная этнизация которых происходила за пределами зоны проживания основного этноса, а реальная социализация – после возвращения на родину. Все они постоянно ощущают подозрение и недоверие со стороны основного ядра этноса, вследствие этого какая-то часть «неофитов» становится агрессивными традиционалистами, чтобы доказать истинность своей этничности, другие – пассивными традиционалистами. Но немало и тех, кто не выдерживает психологического состояния вечного подозрения соплеменников и меняет этничность, хотя в этом случае они могут снова попасть в ситуацию неофитов.
Третий тип, «изгнанники», составляют диаспоральные группы, проживающие в иноэтнической среде и сохраняющие свою «исконную» этническую идентичность. Этот тип – прямая противоположность «неофитам», поскольку в чужой среде этнические группы, как правило, стойко защищают свою этничность, хотя с поколениями она почти неизбежно ослабевает. Разумеется, степень сохранности традиционных этнических свойств зависит от уровня «агрессивности» и «чужеродности» внешней среды. Скажем, украинцы на территории иноэтнического венгерского окружения дольше хранили свою этническую специфику, чем на территориях с преобладанием родственного русского населения, где они в исторически короткие сроки русифицировались110.
Четвертый тип, «евнухи», – это люди или небольшие группы, которые утратили этническую память, не хранят этнокультурного наследия и одновременно не входят ни в какую другую этническую группу, т. е. полностью лишены этнической идентичности.
На наш взгляд, среди множества конструктивистских и отчасти инструменталистских концепций устойчивости этничности наибольшего внимания заслуживает подход Дж. Хааса и У. Шаффира, которые полагают, что устойчивость этничности обусловлена как внутренними характеристиками этнической группы, так и внешними обстоятельствами. К внутренним можно отнести следующие характеристики: степень групповой солидарности, меру интегрированности человека в группу, меру сохранения им культурного наследия. А к внешним характеристикам относится готовность среды, в которой живет данная группа, к ее интеграции на условиях равенства с другими. Часто бывает так, что ощущение негативного отношения к себе со стороны окружающей среды в большой мере способствует сохранению внутренней замкнутости группы и традиционных черт ее образа жизни, чем некие внутригрупповые обстоятельства111.
Инструментализм опирается на социально-психологические теории, в которых этничность трактуется как эффективное средство, инструмент для преодоления отчуждения, восстановления попранной национальной гордости, как социальная терапия и др. Такого рода идеи можно найти у известных социологов и психологов: Д. Белла, Дж. Дейвиса, Д. Мойнихэна, К. Юнга и др. Одно из самых известных проявлений инструментализма сложилось в политологии. Политологические трактовки инструментализма прослеживаются и у Д. Горовица в его анализе причин межэтнических конфликтов112. Вместе с тем, как мы отмечали ранее, этот социолог один из тех, кто обосновывал важность и пользу примордиалистского подхода к изучению этнических явлений113. Другой пример сочетания разных теоретико-методологических подходов мы видим у автора термина «примордиализм» Э. Шилза, не отвергавшего при этом и сугубо конструктивистские оценки этничности. Еще в конце 1960‐х годов, т. е. за два десятилетия до того, как появилась книга Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества», считающаяся едва ли не главным символом конструктивизма в теории наций, Шилз писал:
Этническая общность представляет собой умозрительный конструкт… <…> Даже когда национальная общность освобождалась от этнической (или расовой) общности, то и в этом случае в концепции национальной общности по-прежнему оставалось много от мифологии, поскольку она является плодом воображения114.
Теоретико-методологический подход – это не религия, поэтому комбинация научных подходов не является вероотступничеством. Напротив, выдающиеся ученые весьма часто сочетают в своем творчестве разные теоретические подходы, синтезируя таким образом новую методологию.
3. «Нация», «этнос» и «этничность»: трактовка в рамках плюралистической методологии
О принципе взаимной дополнительности в изучении этничности
На протяжении нескольких десятилетий на рубеже XX–XXI веков в науке шел спор между сторонниками примордиальной и конструктивистской концепциями этничности и нации, хотя многие теоретики вполне обоснованно считают противопоставление этих парадигм искусственным и схоластическим, поскольку они вполне совместимы друг с другом115. Повторим то, что уже отмечалось автором еще в начале 2000‐х годов, но все еще плохо осмыслено в научной литературе. Раздельное использование конструктивизма и примордиализма приводит к заведомо неадекватным выводам. При этом крайний радикальный примордиализм, в эссенциалистской его форме, предполагает «фатальную, извечную предопределенность культурных свойств и ценностных ориентаций различных народов (этносов) и цивилизаций. Отсюда вытекает идея роковой „судьбы народа“… <…> Другая крайность – чрезмерный конструктивизм, который преувеличивает пластичность массового сознания и возможность манипулировать им под воздействием дискурса интеллектуальных и политических элит. Обе крайности приводят к весьма упрощенным представлениям об этнических процессах»116.
Между тем научные подходы примордиализм и конструктивизм дополняют друг друга, поскольку изучают разные стороны этничности. Первый сосредоточен на анализе относительно устойчивых свойств этнических общностей: этническое самосознание, солидарность и предрасположенность к взаимному общению, например в сфере брачных отношений. Конструктивизм, напротив, акцентирует внимание на относительно подвижных элементах этноса, сформированных в результате целенаправленной деятельности людей, во многом под влиянием этнических элит. О взаимосвязи этих подходов (не используя сами термины «примордиализм» и «конструктивизм») писал Ю. В. Бромлей еще в начале 1980‐х годов. Он отмечал, что каждый этнос на протяжении всего своего существования практически перманентно подвергается изменениям. По сути, академик говорил о «конструировании» этнической культуры (во всяком случае, о ее «перестройке») под влиянием инноваций. Однако в конечном счете «только межпоколенная передача инноваций придает им традиционность и относительную устойчивость, которая необходима для выполнения любым компонентом этноса своих функций»117. Эта идея о том, что всякая новация, любое конструктивное решение входят в жизнь этнических групп после того, как становятся традицией, подтверждается анализом результатов исследований лидеров конструктивистского направления.
Так, Э. Хобсбаум и его коллеги по сборнику «Изобретенные традиции» показали, что многие явления культуры, которые люди XX века считали давними традициями, были изобретены в XIX веке, особенно часто в период правления королевы Виктории. Однако с тех пор эти артефакты (например, шотландский килт – предмет мужской одежды из клетчатой ткани) закрепились в культуре и превратились в полноценные традиции, поскольку уже несколько поколений англичан и шотландцев используют эти изобретения в качестве этнических символов.
Исследования Ф. Барта показали, как меняется этническая идентичность вслед за изменением социальных границ. Вместе с тем история показывает, что возникшие границы могут надолго «застывать», а сформировавшаяся при этом идентичность закрепляется в сознании нескольких поколений людей. Например, абсолютное большинство россиян вполне определенно отмечают свою этническую идентичность (национальность) в переписях населения, а доля россиян, которые с 1989 по 2010 год не захотели или не смогли указать свою национальность в переписи, составляла всего 2–4%118. Смена одной этничности на другую – еще более редкое явление, чем отказ от указания национальности. Исследования Д. Богоявленского показывают, что случаи смены этничности во взрослом возрасте даже в этнически смешанных браках за два десятилетия между переписями населения СССР и России были единичными. Чаще всего такие случаи фиксировались на пограничных этнических территориях (например, татаро-башкирских) и обычно происходили под влиянием административного давления со стороны властей той или иной республики, т. е. почти всегда были недобровольными119.
О проницаемости этнических границ и потенциальном дрейфе этничности могла бы свидетельствовать высокая доля межэтнических браков, однако в России она весьма незначительна и составляет, по данным переписи 2010 года, всего 12% от общего количества семейных пар120. Во многих европейских странах этот показатель еще ниже, например в Эстонии в тот же период – менее 10%121. В советское время в РСФСР доля этнически смешанных пар тоже была относительно небольшой и колебалась от 8,3 (1959) до 14,7% (1989)122. Ю. В. Бромлей считал такие показатели типичными для современного мира, отмечая, что «этническая эндогамия» – так академик назвал браки внутри одного этноса – доминирует в большинстве стран мира. По его мнению, «в современных условиях этносы по крайней мере на 80–85% эндогамны»123. В России, по переписи 2010 года, в этническом и региональном разрезах наименьшая доля этнической эндогамии зафиксирована у народа коми – 65% брачных пар в одноименной республике, а наивысшая – у чеченцев в Чеченской Республике – 95%124.
Наиболее выдающиеся научные труды в области изучения этничности и нации, как правило, сочетают в себе разные научные подходы. К. Калхун в своей фундаментальной и обобщающей книге «Национализм» выделил раздел «Конструкция и примордиальность», в котором отказался не только от оценок этих подходов по принципу «плохие» и «хорошие», «истинные» и «ложные», но и показал, что эти подходы предназначены для анализа разных социокультурных явлений: конструктивизм наилучшим образом описывает феномен нации, тогда как примордиализм весьма ограниченно пригоден для анализа этого явления и больше применим для характеристики «родства», «происхождения» и «этничности», учитывая значительную зависимость указанных явлений от передачи прошлого, исторического опыта125.
Плюралистический подход в теории наций
Пока мы говорили о плюралистическом подходе при изучении этничности, но не менее значим он и для концептуального осмысления наций, особенно в нашей стране, где дискуссии о природе нации подстегиваются постоянным переосмыслением причин и последствий распада СССР и периодически взрывающимися этническими конфликтами на постсоветском пространстве. При этом научные дискуссии часто приобретают политический подтекст. Само определение нации (или отказ от него) зачастую трактуется как предрасположенность автора не только к некой теоретической концепции, но и к политической доктрине. Так, переход от советской преимущественно этнической трактовки нации (как «этносоциального организма») к политической вызывал подозрительность некоторых теоретиков, выступающих от имени малочисленных народов и задавшихся вопросом: а не является ли такой концептуальный дрейф проявлением этнического нигилизма со стороны федеральных властей и московских элитарных кругов? На это обратил внимание российский философ и известный политик Рамазан Абдулатипов в письме президенту Б. Н. Ельцину в апреле 1994 года:
Народы угадывают скрытую логику подобных рассуждений: России нужны Чечня, Тыва, Калмыкия и не нужны чеченцы, тувинцы, калмыки126.
Подобные опасения подкреплялись аргументами, взятыми из советской истории, когда под шум деклараций о равноправии народов многие этнические общности, в том числе и упомянутые чеченцы и калмыки, были изгнаны со своих территорий.
В современной мировой науке политические теории нации, бесспорно, доминируют над этническими в комплексе этнополитологических исследований. Об этом можно судить на основе анализа трактовок нации, отраженных в подавляющем большинстве современных энциклопедических, справочных изданий и учебников, издаваемых в Западной Европе и Америке, например в авторитетной «Энциклопедии национализма» Л. Снайдера127. В российской этнологии такой подход утвердился прежде всего благодаря усилиям В. А. Тишкова, М. Н. Губогло, А. Г. Осипова, В. С. Малахова и др.128
Политическая теория нации предполагает прочную связь социально-политической общности с государством. При этом национальная общность либо развивается в границах государства, либо стремится к ее созданию. Эта идея является основой политической теории нации, однако внутри нее существуют разные версии. Прежде всего, различаются этатистская и гражданская разновидности политической нации. Так, В. А. Тишков характеризует свое понимание сущности нации как этатистское, в этом случае понятие нация тождественно понятию государство129. В таком понимании Организация Объединенных Наций (ООН) может рассматриваться как организация объединенных государств. Гражданская трактовка политической теории нации связывает это явление не столько с этатистским субъектом – государством, сколько с гражданским – с обществом, подчеркивая ведущую роль общества, народа в политической системе правового государства. В такой трактовке и ООН – это организация не всех государств земли, а только признанных мировым сообществом в качестве суверенных государств-наций, основанных на народном суверенитете, при котором власть подчиняется воле народа (нации), а не диктатуре монарха, вождя, военной хунты или олигархических групп.
Концепция гражданской нации стала складываться в послевоенной Европе и в США. Одним из первых такой подход к нации выразил выдающийся американо-немецкий политолог Карл Дойч, провозгласивший: «Нация – это народ, овладевший государством»130. Позднее похожую трактовку политической (гражданской) нации поддержал гарвардский профессор Руперт Эмерсон:
Нация стремится овладеть государством как политическим инструментом, с помощью которого она может защитить и утвердить себя. <…> …Нация фактически стала тем, что придает легитимность государству. Если в основу государства заложен любой другой принцип, а не национальный, как это имеет место в каждой имперской системе, то его основы в век национализма немедленно ставятся под сомнение131.
С 1960‐х годов стало популярным научное представление о том, что гражданская нация не только легитимизирует государство, но и формирует национальные интересы, которые должны переплавляться государством в политические стратегии. Главное же, что нация, как общество, объединенное единством гражданских ценностей, только одна и способна предотвратить перерождение демократического государства в тоталитарное.
В 1990‐х годах исследователи стали называть важнейшим признаком появления гражданской нации такое изменение массового сознания, при котором формальные граждане овладевают гражданской культурой и начинают дорожить ценностью своих прав и обязанностей, а также осознавать решающую роль граждан в политической системе государства в качестве источника власти. В таких условиях активно формируются добровольные ассоциации и другие институты гражданского общества, способные контролировать деятельность государственной власти и защищать интересы общества.
Итак, появление развитого и влиятельно гражданского общества позволяет характеризовать политическую нацию как гражданскую, которую признают наиболее демократичной формой развития нации.
Приверженцы гражданской версии политической теории нации подчеркивают, что нация – это не просто население государства или согражданство и даже не просто гражданское общество, – это еще и общность, объединенная едиными культурно-ценностными узами. Такая точка зрения на нацию сложилась во многом под влиянием Э. Геллнера и Б. Андерсона – двух самых известных специалистов в области теории нации, идеи которых надолго определили развитие этой отрасли знания. Наша краткая, по необходимости, характеристика творчества обоих авторитетных ученых, разумеется, не претендует на исчерпывающий анализ их взглядов. Мы лишь хотим обратить внимание наших читателей на некоторые нюансы концепций Геллнера и Андерсона, которые остались малозамеченными, ускользнув от внимания большинства толкователей трудов обоих мыслителей.
Эрнест Геллнер внес огромный вклад в развитие теории нации и национализма. Теорию Геллнера можно назвать экономико-культурологической. Как приверженец идей модернизации, он выводит неизбежность появления гражданского национализма и политических (гражданских) наций из новой роли культуры в индустриальном обществе, в отличие от традиционных аграрных обществ. В традиционном обществе сосуществуют малые, народные культуры, замкнутые в пределах самодостаточных общин. Стоящие у власти административные и духовные элиты заинтересованы в сохранении и даже углублении культурных различий, отсюда крайне редкое совпадение между политическими границами и сферой распространения отдельных этнических культур. Ситуация стала меняться в ходе индустриальной революции Нового времени (XVIII–XIX века), стимулировавшей рост культурной стандартизации общества и вытеснения местных самобытных культур единой для государства, универсальной и профессиональной. Мобильное же по своей природе индустриальное производство требует культурной однородности общества. Возникает потребность в развитии единого национального языка и общих культурных смыслов. Единообразие культуры может быть обеспечено лишь централизованной системой образования, за которой стоит современное государство. Поэтому совпадение политического сообщества и поддерживаемой им единой национальной культуры становится нормой Нового времени, предстающей в истории как националистический императив.
Итак, концепцию Геллнера в ее первоначальном виде можно упрощенно представить в виде простой схемы. В ней исходным импульсом образования наций выступает экономическая модернизация. Она вызывает потребность в обеспечении культурной однородности населения той или иной страны, а также в политической кодификации населения (граждан) в качестве основного субъекта государства-нации. Главную функцию в борьбе за построение культурно однородных обществ в границах существующих государств или завоевании национально-государственного единства и независимости народов, не имевших своей государственности, берут на себя националисты, которые, по мысли раннего Геллнера, играют решающую роль в созидании нации (nation-building). Эта идея казалась логичной и абсолютно неуязвимой для критики, однако в конце своей жизни Геллнер во многом отказался от этой схемы, что не умалило его заслуг в том, что он одним из первых сформулировал основной признак политической нации – ее связь с государством, а заодно определил важнейшую политическую функцию национализма. По Геллнеру, национализм – «политический принцип, требующий совпадения национальной общности и государства»132.
Геллнер был одним из пионеров использования методологии конструктивизма в развитии теории наций и национализма. На этом пути он прославился уже тем, что ввел в научный оборот свой знаменитый афоризм о политическом субъекте, сконструировавшем нации: «Именно национализм порождает нации, а не наоборот»133. Эта идея, впервые опубликованная в монографии «Нации и национализм» (1983), цитировалась множество раз, на многих языках мира, и известна больше, чем любое другое изречение Геллнера. Однако мало кто обратил внимание на то, что спустя 11 лет после выхода упомянутой книги сам мэтр фактически опроверг свою идею о роли национализма в строительстве наций.
В 1994 году, за год до смерти мэтра, вышла последняя монография Геллнера: «Условия свободы: Гражданское общество и его исторические соперники»134. В ней изложена принципиально иная схема исторического соединения национальной культуры и государственных границ. Выдающийся ученый не побоялся показать, что такое соединение произошло во многих странах Европы (прежде всего на севере континента и на его Атлантическом побережье) намного раньше, чем он предполагал ранее, – еще в период Средневековья, за несколько веков до появления в эпоху модерна сил, которые стали называться националистами. Значит, все-таки не националисты сконструировали нации, во всяком случае не везде и не всегда они себя в этом проявили. Так, политическая история Англии не оставила этническим националистам места для участия в национальном строительстве, поскольку на Британских островах нация стала складываться еще в XV–XVI веках и совсем не так, как первоначально предполагал Геллнер: не снизу – усилиями националистов, а сверху – усилиями государства и спонсированной им профессиональной культуры. Поэтому, когда спустя три-четыре столетия в Англии наконец появились националисты, в них уже не было нужды в качестве создателей нации, она уже существовала: «…нация Шекспира уже не нуждалась в формировании новой кодифицированной культуры»135. И в Германии этнические нации сформировались до появления национализма. Здесь этническая германская нация появилась, по мысли Геллнера, в эпоху Реформации, хотя еще долго не была очерчена едиными государственными границами:
То есть были невесты, готовые идти к алтарю, оставалось только найти для них достойных политических женихов. Иначе говоря, здесь требовалось государственное строительство, но не создание новых национальных культур136.
Этим строительством занимались не самодеятельные националисты, а государство, активнее других – прусская монархия, и Геллнер подчеркивает, что произошло это «прежде, чем вышел на сцену политический национализм»137. И лишь в континентальных империях – Австро-Венгерской и Османской, особенно там, где политические и этнические границы совершенно не совпадали (например, на Балканах), где господствовала этническая и религиозная многоукладность и чересполосица, – там и проявилась созидательная и одновременно весьма агрессивная роль националистов, которые, поставив задачи строительства культурно однородных государств, должны были вначале сконструировать однородные этнические нации, а для этого «ассимилировать, или изгнать, или уничтожить огромное количество людей»138.
Геллнер, переосмыслив роль национализма в формировании этнических наций, одновременно обосновал в последней своей монографии решающее значение гражданского общества в становлении наций гражданских. По его мнению, гражданское общество является важнейшим условием появления гражданской нации, поскольку только оно способно «служить противовесом государству, не мешая ему, выполнять роль миротворца и арбитра между основными группами интересов…»139. На наш взгляд, чрезвычайно важным является замечание Геллнера о том, что появление развитого гражданского общества пока является исторической редкостью, поэтому
до сих пор во многих (и весьма обширных) частях нашего мира не существует того, что обозначается этим термином. <…> Наиболее остро это проявилось в тех обществах, где все стороны жизни были строго централизованы, где существовала единая политическая, экономическая и идеологическая иерархия, не допускавшая никакого соперничества, и где единственная точка зрения служила мерилом истины и правоты небольшой группы людей140.
Там, где отсутствовали или были очень слабыми институты гражданского общества, не складывались и гражданские нации, и такие «общества пребывали в разобщенном, атомизированном состоянии»141.
Научное величие Геллнера, на наш взгляд, состоит уже в том, что он, будучи прославленным ученым, не побоялся на склоне лет радикально изменить свою теорию, опровергнув свои собственные, при этом самые яркие и популярные идеи. Но в результате он сделал свою теорию более адекватной политической истории, более разнообразной и богатой по содержанию. Она стала одной из самых популярных и авторитетных в этнополитологии, но одновременно одной из самых спорных. Многие ее положения стали рассматриваться как аксиоматические, однако основной вывод, к которому сегодня приходят исследователи, оценивающие роль этой теории, чаще всего сводится к признанию того, что даже такой выдающийся мыслитель современности не смог построить завершенную единую теорию нации и национализма142. В то же время он далеко продвинулся в понимании механизмов взаимовлияния экономической и культурной модернизации с одной стороны и этнополитических, национальных процессов – с другой.




